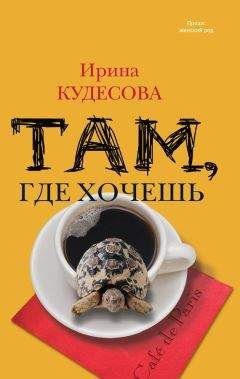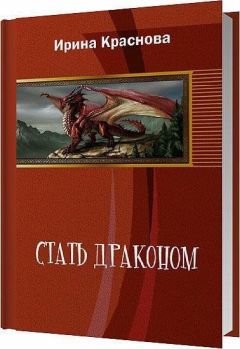Однажды осмелиться… - Кудесова Ирина Александровна
Дверь скрипнула и приоткрылась. В нее просунулась голова.
Голова, шарившая глазами по кроватям, показалась смутно знакомой. Решительно, эту пресную физиономию Нина где-то видела. Столкнулась с ней взглядом, но и тогда память ничего не предложила, даже на выбор. Физиономия же, напротив, что-то там себе прокумекала. Смотрела несколько секунд, не мигая, а затем втянулась назад, за дверь.
4
Доездилась, мымра: вон как ей ножищу оприходовали.
Надо думать, там, в Москве, и навернулась.
И это с ней — Иосиф? Теперь понятно, чего она на кафедру в сентябре заявилась. Отношения выяснять. Бороться за мужика. Пускай забирает.
Без косметики ее и не узнать, плюс — лохмы, расческу в Москве забыла, видно. Ося таскается к ней что ни день — всеобщий любимчик тут, — она даже для него не приведет себя в порядок. Мымра. Уехать. Этот год придется доработать, но в конце июня уже можно…
Уехать. Ничего не бояться.
Родная Паланга…
Первое время пожить у Дайнавичюса, все-таки друг отца, и дом у них немаленький. Потом… а что потом? Сбережений нет, если Иосиф не поможет — хоть под мостом поселяйся… Под мостом в море… Каститис, братец, продал дом, когда родителей не стало, отвалил с деньгами в Штаты. И хоть бы на дело они пошли, ведь нет, прокаркал. «Прокаркал», — говорит Ося в таких случаях… Ося… Как мог он с такой кикиморищей связаться?
Чувство одиночества и обиды — они-то и развязали руки.
Не оставалось больше обязательств: дочки выросли, у мужа — мымра. Не нужна никому тут. Чего же ждать… гражданство литовское есть.
Вспомнила, как ездила подавать на него документы в Москву, в серое бетонно-стеклянное здание в Борисоглебском переулке. Девушка в окошке перебирала листы: «А у вас есть бумага, удостоверяющая…» — не выдержала, перебила ее: «Вы видели мое свидетельство о рождении?» В свидетельстве — дата: 15 июня 1940 года. Девушка сморщилась: «Нам нужны бумаги до пятнадцатого…» Родительский архив братец утащил в Лос-Анджелес — пойди сыщи.
— Слушайте, я родилась в восемь утра, а Литва открыла границу советским войскам в девять сорок пять. Вам этого недостаточно?
Девица повертела в руках свидетельство о рождении.
— У вас не указано время…
Бывают же дуры на свете.
— Вы полагаете, что рядовой Иванов на сносях пересек границу, вылез из танка и разрешился от бремени?
Девица посоветовалась с начальством и документы приняла.
Ничто более не держало… Позвонила Дайнавичюсу, к телефону подошла Рута. Пока говорили — так, ни о чем, мучила мысль: как спросить, есть ли возможность остановиться у них? Вдруг показалась нелепой эта мысль: ехать туда, где нет крыши, проситься в чужой угол.
— Рута, а сколько в Паланге стоит снимать квартиру? Маленькую совсем? На одного?
Что за нелепая идея снимать жилье. Пожить можно прямо у них, правда, летом все комнаты сдаются, дом ведь недалеко от моря, «приезжайте ранней весной — папа будет рад».
— Рута, ты не поняла… Во-первых, я не могу весной, у меня студенты…
— Ах да, я забыла…
— А во-вторых, я насовсем хочу приехать. Понимаешь?
Рута не понимала ничего. Как так — насовсем? А где жить? А почему без мужа? А дочки-внучки? А работа? А…
— У Иосифа бизнес… он не может его оставить. А я все равно на пенсию выхожу. Рута, хочешь, буду у вас комнату снимать? Все ж веселее мне с вами, чем одной.
Нет, чтобы папа брал деньги с дочери своего друга?
— Эгле, даже не думайте. Знаете, есть у меня один вариант… Если он вас не смутит…
Вспомнила про мымру: «Рута, меня уже мало что может смутить».
Рута помялась и выдала:
— Живите сколько захотите у нас… в свинарнике.
— Где??
— Ну мы же хрюшек разводим, Иосиф еще для своей сотрудницы одного покупал… У нас целая комната с хрюшками. Там диван есть. Нет, Эгле, вы не думайте, они совсем не вонючие! Чистюли еще какие! Да и мы за ними следим. При желании будете нам помогать, а нет, так и просто живите. Вы в них влюбитесь, вообще никуда переезжать не захотите…
В шестьдесят пять лет поселиться в свинарнике.
Мужа оставить, детей, внуков, дом… работу, наконец.
Да какая разница. На работе ждут не дождутся, когда она уйдет, а дом пуст.
В Паланге можно будет вставать ранехонько и — на пляж. Бродить вдоль воды, искать медовые камешки, солнечные осколки.
Ведь верила ребенком в эту легенду… Что давным-давно гуляли по небу целых два Солнца: одно поменьше и полегче, а другое — большое и тяжелое. Такое тяжелое, что однажды небо не удержало его: огненный диск упал в море, ударился об острые подводные камни, осыпался бесчисленными золотыми осколками — вроде тех, что усеяли пол на веранде, когда она попала мячом в стекло. Брат злился, говорил, мол, только глупые девчонки могут верить в то, что было два солнца: «Люди ослепли бы!» Но Эгле знала, почему он так заводился. У него была своя версия, у этого дурачка.
Она будет часами сидеть на песке, перебирая его пальцами. Возьмет напрокат велосипед, тряхнет стариной — проедет по всем тропинкам, где в семнадцать лет они гоняли с Йонасом, первым мальчиком, который ее поцеловал — повернулся, резко притянул к себе, а она отступила от неожиданности, больно оцарапав икру о велосипедную цепь…
Она будет подниматься на холм Бируте и смотреть на море.
Каждый день она будет видеть море.
И когда-нибудь у нее в глазах ничего больше не останется — только огромная водная равнина. И ничего ей уже не будет нужно — только этот простор, эта гладь… И долгий мост.
Какими мелкими покажутся ей сегодняшние сомнения. И печали.
5
Иосиф высылал деньги аккуратно. Вернее, не высылал — просто сливал на ее счет в «Парекс банкас» — каждые две недели, будто ей было куда их тратить…
Свинарником звалась довольно просторная комната на втором этаже, под крышей. Вдоль стены стояли клетки на двух полках одна над другой: Рута взялась за свиной бизнес засучив рукава. Здесь же хранился запас самого необходимого: сенце, корм, водица. В углу — вполне сносный топчан. Одежду Эгле сложила в шкафу в комнате Руты. Возле топчана поставили тумбочку, Рута притащила из отцовской комнаты большую настольную лампу допотопных времен: синий абажур, ножка в виде бронзовой полуприкрытой отрезом ткани наяды — как раз такие Эгле и нравились, не то что современные поделки для офисов, которые теперь в любом доме.
Перед сном Эгле читала. Брала из библиотеки Дайнавичюса книжки на литовском; лампа отбрасывала синий отсвет на стены, от клеток шли долгие тени. Читать по-литовски было труднее, чем по-русски, «докатилась» — говорила себе Эгле. Правда, катилась она без малого полвека; по дороге утеряла литовский акцент, и он всплывал, только когда она нервничала. А в литовском, наоборот, появились чужие нотки, некоторые слова вылетели из головы напрочь. И сидя под синей лампой, слушая посапывание хрюшек, она пыталась вернуть себя прежнюю. Думала: а что было бы, если не понесло бы ее в Питер? Останься она в Литве… Вся жизнь иначе сложилась бы, вся жизнь. Но тогда, в восемнадцать, так хотелось бежать в «большой мир», прочь из приморского городка. Что она тщилась найти? Эгле уже не помнила. Жалела ли, что связала жизнь с Иосифом? Что теперь ничего не осталось — только топчан в свинарнике, да и тот чужой? И этот город… Время от времени приезжали сюда с Осей, селились всегда в санатории, в гостинице. Город менялся — в конце девяностых выстроили новый пирс; всякий раз в портрете Паланги появлялась свежая краска. И теперь Эгле смотрела в лицо родного городка и не знала — узнаёт ли. Утром, перед зеркалом, сталкивалась с собой глазами и не понимала — нашла ли то, чего так долго и мучительно жаждала.
Утро: Пятрас Дайнавичюс с газетой — старику глубоко за восемьдесят, но маразма нет, такой пессимистический живчик.
— Я, слава богу, не доживу. А вы еще третью мировую понюхаете. Видели, что в Ираке творится? Скоро китайцы активизируются… Рута, я не хочу яичницу. Кстати, куриный грипп уже до Европы дошел, — взмах газетой.