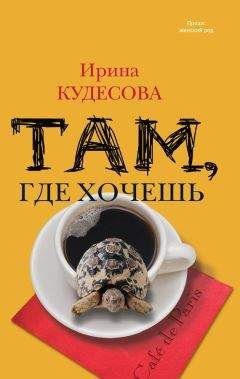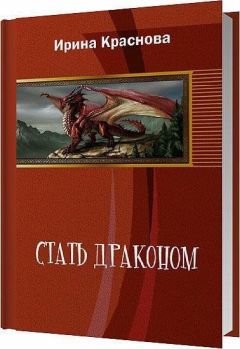Однажды осмелиться… - Кудесова Ирина Александровна
91
Понятно, что Вовка — не идиот, учуял все. Но — на удивление — ни одной сцены, все в себе носит, злобится, ясное дело, но молчит, вот выдержка. Это даже вызывает уважение. Уважение или раздражение. Хоть бы проорался, что ли. Тогда можно проплакаться или нет, возмутиться, да! возмутиться — как он мог подумать, что она клюнет на Шлыкова, у Шлыкова, между прочим, был роман с Кэтрин, помнишь Кэтрин? Она, Оля, такое знает про этого самого Шлыкова, что смешно было бы предположить…
Утро понедельника. Вовка на работе… Где ключ?
Ключа нет.
Наверно, перед работой ходил цветочки поливать. Это когда у него два выходных было.
Посадил Степку хлопья шоколадные есть, а сам мухой — наверх? Наверно, забыл ключ выложить, с собой уволок. Что теперь делать? Только ждать, когда ключик на место ляжет.
Вряд ли Вовка заглянул в спальню — там цветов нет. А все остальное в норме. Кроме блюдца с тараканом.
Оленька шла на работу, думала: это единственное, что осталось от того вечера, — смятая постель, воск, окурки. И оно пока живет, там, в пустой квартире, живет субботний вечер. Как дать понять Нико, что это — всё?
Он, конечно, примет ее слова за игру. За набивание цены, обиду за подружку, капризы. А это просто страх. Тот же, что тогда, когда она бежала от Максима к Вовке. Только с Максимом все иначе было. Может, еще страшнее. Да, страшнее.
Нико встретил ее долгим взглядом, она опустила глаза.
Она вспомнила его.
Ей будет тяжело бежать.
92
В шесть вечера зазвонил мобильный. Как раз обсуждали разметку нового номера. Звонила Алена. Она просто сказала:
— Я приехала.
И ничего больше. Это же Алена.
Вот куда пропал ключ. Вовка его под половик положил или в почтовый ящик кинул.
— Алена, я тебе все объясню. Ты во сколько спать ляжешь? Если я в двенадцать…
— Оля, я устала с дороги. И мы с Ниной рано ложились.
— А завтра?..
— Завтра утром бегу по делам, — и обратно в Нижний.
— Алена, я приеду к девяти. В девять-то можно зайти?
Не говорить же Нико, что она за два дня не нашла времени убраться и ей срочно надо оправдываться перед подружкой, которая не в курсе дела.
— Нико, мне надо уйти в восемь.
— Что-то случилось?
— Нет. Просто надо.
— Полагаешь, у тебя привилегированное положение?
Выговаривать он ей еще будет, как школьнице.
— А разве нет?
— Нет. Могу я знать…
— Думаю, не можешь.
И в этом «не можешь» — все, что терзало напролет: ночь, день, ночь, утро. Не можешь полюбить. Не можешь открыться. Не можешь быть рядом. Хорошо плаваешь.
Без десяти восемь Оленька встала, улыбнулась:
— Нико, у меня работы нет, я пойду, если ты не против.
Он сидел возле Светы, они отбирали картинки в номер.
— Зайди ко мне, — и пошел в кабинет.
Света с любопытством посмотрела — на него, потом на Оленьку.
93
— Кто ее спрашивает?
— Шлыков. С работы.
— Ах с работы… А вы в курсе, сколько времени? Будьте любезны, после одиннадцати звоните ей только на мобильный.
— Звоню. Не отвечает.
— Не отвечает? А что вы от меня-то хотите? Ее нет.
Забыла в сумке мобильный, ускакала к Алене. Сидит там третий час. А мобильный весь вечер — тирлинь-тирлинь — придушенно.
Тирлинь-тирлинь.
Дернуть «молнию» на сумке, нырнуть рукой в нутро, тирлинь-тирлинь звонко выплескивается. Где ж этот телефон… Тирлинь-тирлинь…
Смелость это или отчаяние?
— Алло.
Замешательство. Но трубку не бросили.
— Простите? Я думал, что на мобильный звоню. На сей раз.
Удивительное дело. Голос спокойный. Низкий, можно сказать, красивый голос, но главное — твердый. «На сей раз», — с такой дружественной усмешкой.
— На сей раз — на мобильный. Ольги нет… Слушайте…
Я знаю… Я хотел бы… Я встретиться хотел бы. С вами.
Пауза.
— Хорошо. Завтра я буду в редакции, скажем, в половине третьего. К трем уже народ начнет подтягиваться. Полчаса устроит?
— Да.
Пауза.
— Ее действительно нет. Она у подруги, на другом этаже.
— У Алены?
— Вы хорошо информированы.
Еще одна короткая пауза.
— До завтра.
Не успел ответить — трубку положили.
94
В половине одиннадцатого Оленька выползла на кухню. На столе лежала Степина коробка из-под шоколадных хлопьев и горстка высыпавшихся из нее хрустящих — даже на взгляд — лепешечек. В плошке с зайцами еще оставалось молоко — пара глотков — и горстка размокших-уже-не-хрустящих. Свою чашку Вовка, как обычно, помыл. По чистоплюйскому обычаю.
Свинтуса не было. Алена его еще вчера забрала — повезет в Нижний. Степа — Оленька сквозь сон слышала — даже поплакал, не обнаружив клетки.
Спешить некуда. Оленька сварила себе кофе, вернулась в спальню, села на кровать. Только ноги одеялом обернула. Такое солнце.
Пол, стены заляпаны светом.
Залпом допить кофе, откинуться на подушку. Спешить некуда.
Когда она выйдет из дома, Володя уже припаркует машину в соседнем с издательской конурой дворе, едва не поцарапав новенький темно-зеленый «Опель».
Она будет ехать в метро, а он — рассматривать парящий в воздухе баклажан.
Она выйдет на «Смоленской», когда он будет расплачиваться за пиво.
Она остановится возле цветочного лотка, будет долго стоять, смотреть на лепестки, листья, стебли; на пестрые личики, жмурящиеся под бледным солнцем, — личики умирающих растений, которые еще не знают о своей смерти.
Он толкнет дверь подвала, он войдет внутрь. Оглядится. Никого.
Она будет стоять, смотреть на цветы и уже не видеть их.
Он услышит: «Владимир? Сюда проходите…» — и пересечет комнату, за которой — распахнутая дверь.
Она медленно пойдет по булыжной мостовой Старого Арбата.
Он перешагнет порог кабинета, подумает: «Этот человек своего не упустит. И ведь есть — ямка на подбородке. Слишком уж по-киношному выглядит».
Она будет стоять у двери подъезда, пока девочка с ранцем не позвонит в домофон и мама ей не откроет. Девочка нырнет в квартиру на первом этаже, покосившись на тетю, с ней вошедшую. Лифт сползет, ненадежный, как побитое алюминиевое ведро, опрокинутое на дно колодца. Оленька станет подниматься по лестнице. Спешить некуда.
Когда Володя выйдет из подвала — на ослепительное апрельское солнце, Оленька остановится перед дверью на последнем этаже. Переведет дыхание. Сквозь побитое дождями серое окно будут рваться на лестничную клетку длинные лучи. Оленька нажмет кнопку звонка. За дверью прошаркают. Не открывая, спросят: «Вам кого?» И она — с внезапно сжавшимся сердцем, с горлом, отказывающимся пропускать слова, выдавит:
— Я к Кэтрин.
Часть третья
НИКОЛАЙ
1
Если взять одну-единственную песчинку — удержать ее подушечками большого и указательного пальцев — и посмотреть на просвет, она окажется такой бесплотной, бесцветной. Провести ладонью по ласковому покрывалу, устилающему пляж, с вечно промокшим краем — там, где море. Эта почти пыль составила бы счастье не одного миллиона песочных часов… Сжать горстку в кулаке, смотреть, как высыпается ниточка из-под согнутого мизинца. Порыв сырого ветра разбивает ее. Солнца нет, серо. Если без ветровки из дома выйдешь, продрогнешь до костей, только «Суктинис» спасет.
Эгле встает, стряхивает с юбки песок. Ветер спешит куда-то, но он все время здесь, ветер; спешит, да никак не уйдет. Эгле медленно поднимается по склону — прочь от моря, в дюны. В дюнах песочное покрывало изорвано мелким кустарником: стелются по земле узловатые пальцы, когтят ненавистный песок — мертвый, ничего не дарующий. За дюнами — сосны, они гасят ветер. Гасят: будто на кнопку нажимают, и нет его. Счастлива ли она здесь?