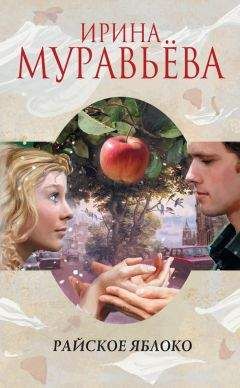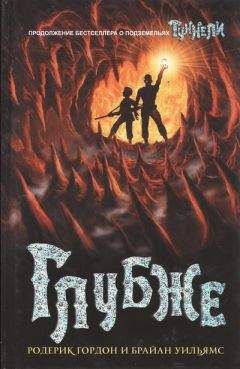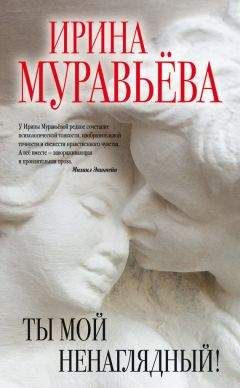Ирина Муравьева - День ангела
Анастасия Беккет – Елизавете Александровне Ушаковой
Лондон, 1935 г.
Лиза, я здорова, не тревожься за меня. Патрик уезжает в Маньчжурию. Но сначала он хочет заехать в Германию, увидеть своими глазами, что там происходит. Знаешь ли ты, что все партии, кроме нацистской, в Германии уже запрещены, а все, кто не согласен с режимом, брошены в тюрьмы? Все это очень похоже на то, что сейчас в России, только в России это называется коммунизмом, а в Германии – нацизмом. Патрик говорит, что Англия стоит на пороге заключения с Германией морского соглашения, которое приведет к такому усилению нацистов, что скоро весь мир затрещит.
Теперь самое главное: вчера я спросила его, что мне делать – уехать в Париж или ждать его в Лондоне. Он сказал, что мне лучше уехать в Париж. Я не ожидала, что он так прямо и грубо ответит мне, и не выдержала, разрыдалась. Потом начала кашлять. Он сначала хотел уйти, но не ушел, а опустился рядом на корточки – я сидела на ковре перед камином – и начал осторожно гладить меня по голове. От этого стало только больнее.
– Зачем тебе оставаться в Лондоне? – спросил он с удивлением. – Ведь там же семья.
Я подумала, что он разлюбил меня и хочет от меня избавиться, а я так долго не догадывалась об этом! И пока он не сказал мне всю правду в лицо, я почему-то была уверена, что он любит меня и будет любить, несмотря ни на что!
– Так лучше, чтобы я уехала, да?
– Я думаю, да, – напряженно сказал он. – Потому что мы уже не можем жить как раньше…
У меня вдруг так ослабели руки и ноги, что я почти перестала их чувствовать, словно они отнялись.
– Давай не будем сейчас! – заторопился он. – Тебе тяжело, ты очень болела. Когда я вернусь, мы подумаем.
– О чем мы подумаем?
– Подумаем, что нам делать дальше.
– Ты сам сказал, что нам делать! Ты сам сказал, что мы не можем быть как раньше!
Он весь побелел:
– А чего ты хотела? Чтобы я сделал вид, что ничего не помню? Или, может быть, ничего и не было?
– Нет, – пробормотала я, – не хочу больше никакой лжи.
– Тогда уезжай в Париж! – Он скрипнул зубами и отвернулся. – Для всех будет лучше.
– Ты совсем не любишь меня? – зачем-то спросила я и сама услышала, как жалко и нелепо это прозвучало.
– Тебе это важно?
– Две недели ты спасал меня, чтобы я потом уехала?
– Я не думал ни о чем, кроме того, что ты можешь умереть, как сказал доктор. Он сказал, что у тебя слабое сердце.
Я чувствовала, что наш разговор ему в тягость. Но остановиться уже не могла. Пусть он сам скажет, что больше не любит меня.
– Мы с тобой чужие теперь? – спросила я. – Ничего не осталось?
– А как ты хотела? – спросил он.
Я легла лицом на ковер, вжалась в сухую шерсть. Шерсть сильно пахла теткиной собакой, которую незадолго до нашего приезда сбила машина.
– Ты не понимаешь, что ты сделала, – сказал Патрик. – Ты не понимаешь, что всякий раз, когда я захочу обнять тебя, я тут же вспомню, как тебя обнимал он…
– Я прокаженная теперь, да?
– Да, ты прокаженная! Потому что я не верю тебе. Я никогда не смогу тебе верить.
До меня вдруг дошло, что, если он сейчас уйдет, это будет конец. Такого откровенного разговора больше не повторится, и последнее слово останется за ним. Патрик не большой любитель чувствительных объяснений. Как же я, оказывается, ничего не понимала!
– Не уходи! – Я заплакала внутрь пыльного ковра, на котором столько лет лежал этот большой рыжий пес, которого больше нет. – Не бросай меня сейчас!
Услышала его дыхание над своим затылком, судорожное и горячее, как будто он долго бежал. Потом он схватил меня за плечи и начал отрывать от пола.
– Откуда я знаю, когда ты притворяешься, а когда говоришь правду? Может быть, ты сейчас притворяешься? Посмотри мне в глаза! Смотри мне в глаза!
– Зачем? Ведь ты мне не веришь!
Я отворачивалась и вырывалась из его рук, но ему наконец удалось развернуть меня лицом к себе. Я зажмурилась.
– Смотри на меня, я сказал! Зачем я тебе?
Я ответила первое, что пришло в голову:
– Я очень боюсь остаться одна.
– Но я не костыль и не палка! – Он резко отпустил меня и встал.
Он ждал другого ответа! Тогда я выдавила, не глядя на него:
– Прости меня.
Он отмахнулся и сморщился. Сел на качалку у камина и закрыл руками лицо. Посидел так несколько секунд и вышел. Он уже неделю ночует в теткиной комнате, она уехала в Ирландию навестить дочку и внуков.
Ночью я почувствовала на лице его ладонь. Он лежал рядом поверх одеяла, одетый. Я повернулась на бок и попробовала обнять его, он стряхнул мои руки.
– Боишься? – прошептал он.
– Чего мне бояться?
– А если я начну сейчас раздевать тебя?
Я прижалась к нему, вдавила себя в его тело. Он весь дрожал крупной тяжелой дрожью, как дрожат лошади.
– Ты во мне все убила, – пробормотал он. – Я даже не знаю, смогу ли я…
Я заплакала, закашлялась. Так жалко стало его! Ведь все это время я думала только о себе, и тогда, в Москве, я думала только о себе!
– Прости меня! Прости! – Я прижималась к нему изо всей силы, чтобы он, не дай бог, не вздумал опять убежать.
Он поцеловал меня в шею, потом в глаза и вдруг удивился, что вкус моих слез стал другим.
Вермонт, наше время
Вернувшись домой после подслушанного разговора, Ушаков начал заново разогревать внутри то, что приносило ему особенно острую боль.
«Манон тоже никогда не говорила мне правды, я даже не знаю, отчего она покончила с собой. Теперь Лиза».
Он ясно увидел перед собой ее лицо в ту минуту, когда она со странной решительностью показала ему фотографию, где был ее любовник.
«Я не стал бы спрашивать, от кого она беременна и почему он не женился на ней, – думал Ушаков, честно забыв, что он спрашивал именно об этом. – Она сама мне все рассказала. Но о брате даже не упомянула. И когда я спросил ее, как она оказалась в Америке, она ушла от ответа. Почему?»
Внезапно он понял почему. Если бы ее брат попал под машину, или умер от какого-то страшного вируса, или его бы зарезали ночью в городском парке, она поделилась бы этим. Но ей стыдно и страшно было признаться, что брат был наркоманом и погиб от наркотиков. Так же, как он сам стыдился рассказывать, что Манон, его молодая жена, выбросилась из окна их квартиры на рю де Пасси, прижимая к себе иконку. Потому что ни в вирусе, ни в том, что человека всегда могут зарезать ночью в городском саду или сбить машиной, нет вины того, кто был близок погибшему и любил его. Двадцать семь лет назад Ушаков не принял заключения медицинской экспертизы, в котором говорилось, что Манон страдала маниакально-депрессивным психозом, и предпочел отказаться от этого плоского и слишком простого обьяснения той боли, которую он угадывал в ее душе, и, похоронив Манон, остался жить с ощущением неизбывной вины перед ней и уверенностью в том, что была какая-то глубокая загадка, горькая тайна в ее жизни, мимо которой он прошел и не сумел ей помочь. Что-то подобное должна была испытывать и Лиза. Она не постыдилась и не побоялась сказать Ушакову о своей беременности, хотя это могло оттолкнуть его, но признаться в том, что восемнадцатилетний мальчик умер от передозировки, было все равно что признаться постороннему человеку в каком-то тяжелом семейном изъяне, поскольку принято думать, что в нормальных семьях дети не спиваются и не становятся наркоманами. Брат был слишком дорог ей, и она не могла поставить его в унизительную зависимость от того, как посторонний человек отреагирует на такую смерть. Она не могла отдать своего брата чужому человеку и не позволяла никому судить его.