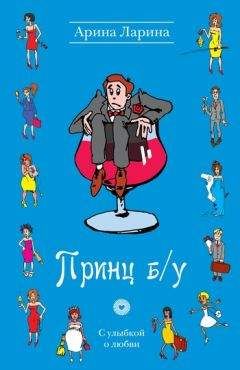Маргарита Симоньян - В Москву!
Жанне до первых морщин было еще далеко. Кроме слова «конвергентность», у нее в активе был абрикосовый нежный загар, высокие скулы, тяжелые волосы и повадки взрослеющего олененка. С такими данными она спокойно могла еще лет как минимум пять путать артефакт с архетипом.
Вчера в Нью-Йорке на бирюковском приеме Жанна громко рассказывала, как она спала с одним модным миллионером и чуть не переспала с другим. Остальные девушки из делегации ей завидовали. А сама она завидовала Норе и пыталась с ней дружить.
— Господи, если бы я спала с Бирюковым, — сказала она Норе после пятого кир-рояля, — я бы считала, что не зря родилась. Я умерла бы от счастья. А ты ходишь с кислой миной все время! Он что — садист?
Нора вздохнула и сказала Жанне:
— Тебе хорошо. Ты дура.
Наконец, Бирюков закончил и под аплодисменты стоящего зала пошел к выходу в окружении соратников. Корреспонденты бросились диктоваться в Москву. Один из них говорил: «Только что мимо прошел Бирюков и с ним какая-то шлоебень», — имея в виду соратников.
Нора по уже сформировавшейся привычке специально чуть отстала от Бориса, чтобы не попасть в объективы. Один из присутствовавших в зале гладко бритых мужчин подошел к ней и протянул визитку. У Норы визиток не было, и она просто улыбнулась.
— Вы эксперт по Чечне? — спросила Нора, читая визитку.
— О да, мэм. Главный эксперт. Я консультирую многих людей. Очч-чень многих людей, — произнес он многозначительно.
— Ну и как там в Чечне, чем все кончится? — спросила Нора.
— Это я у вас хотел спросить, мэм, — сказал эксперт. — Вы все-таки живете рядом, а я там никогда не был. Но я убежден, что справедливая вековая борьба этого маленького угнетенного народа за независимость от России завершится триумфом свободы.
Нора слушала невнимательно, ища глазами Бориса. Наконец, она увидела, что он уже спускается вниз по лестнице, бросила эксперту не очень вежливое «си ю» и стала протискиваться сквозь выходящих из комнаты, чтобы догнать Бориса. Подойдя к лифтам, она услышала, как в углу коридора американская советница в красном говорит с кем-то по мобильному телефону. Советница была very excited. Не взволнованна, не возбуждена, а именно — very excited.
— Как же можно не бомбить? — говорила кому-то советница. — Обязательно нужно разбомбить! А что Европа? Да не смеши меня своей Европой. Всю Европу из одного конца в другой переплюнуть можно.
Впрочем, возможно, Нора неправильно перевела. Она все-таки плохо говорила по-английски.
После обеда Борис потащил Нору в Национальную галерею, где ей мгновенно стало скучно.
Борис смотрел на Нору снисходительно и даже, как ей показалось, раздраженно. Сначала он пытался что-то рассказывать ей о Моне, но, увидев, что она отвлекается и разглядывает туристов, перестал. Он спросил ее:
— Тебе вообще какие картины нравятся?
— Если честно, мне картины вообще не нравятся, — призналась Нора.
«Да, это не Алина», — подумал Борис — не в первый раз за эти два, или три, или четыре года.
В одном закутке на плазмах показывали двух голых мужчин, один из которых размазывал по груди что-то вязкое, что он доставал из ночного горшка, а другой засовывал пальцы себе в волосатый зад.
— Какой ужас! — сказала Нора.
— Это не ужас, это современное искусство, — сказал Борис.
Поужинали с соратниками и полетели домой.
В самолете, пока не взлетели, Борис торопливо читал какую-то почту. Нора изучала фантастически дорогие часы, которые он купил ей в Нью-Йорке.
— А кто был этот рыжий, сидел в первом ряду? — спросила Нора Бориса, вдруг вспомнив рисунок самолетика на листке с рассадкой.
— Рыжий? Это из посольства. Специальный человек. Будет докладывать в Москву, что мы там говорили, — сказал Борис, не поднимая глаза от монитора своего ноутбука.
— Как же он будет докладывать, если он спал всю дорогу?
— Вот так и будет докладывать.
Нора сбросила туфли и распустила волосы. Стюардесса принесла ей шампанского, а Борису — виски. На столике между их кожаными креслами, повернутыми друг к другу, стояла ваза с клубникой, черникой и яблоками.
— Ну и как тебе Америка? — спросил Борис.
— Прикольно, — ответила Нора. — Особенно лобстеры. Я, знаешь, что хотела у тебя спросить — почему они все ходят в одинаковой обуви?
Борис закатил глаза, как будто говорил: «Интересный вопрос, дайка подумать».
— Видимо, потому что им всем нравится одинаковая обувь, — сказал он. — Это то, на чем держится их страна.
— На том, что им нравится одинаковая обувь? — переспросила Нора.
— На том, что у них нет друг с другом принципиальных разногласий. Ни по одному действительно важному вопросу. Включая обувь. Когда мы придем к власти, у нас тоже будет так. По-другому ни одна большая страна выстоять не может.
— А разве мы не с этим как раз боремся? Власть хочет, чтобы все думали одинаково, а ты — против власти. Разве нет?
— Я борюсь с тем, какими методами власть это делает.
— А ты будешь какими методами?
Борис на секунду задумался, а потом сказал: «Давай спать» — и ушел в заднюю часть самолета, где стояла кровать.
Нора долго не могла заснуть. Она лежала рядом с Борисом и наблюдала в иллюминатор за облаками, похожими на заварной крем, стараясь не вспоминать тот снисходительный раздраженный взгляд, которым он смотрел на нее в Национальной галерее. Но все равно вспоминала.
«Когда-нибудь он меня бросит, — думала Нора. — Он меня бросит — и я умру. Или всю жизнь буду несчастной. А жену он не бросит никогда. Просто потому, что она была раньше. Разве это справедливо?»
Она смотрела на спящего Бориса — на длинную морщину, идущую от середины лба к переносице, на брови, на усталую кожу, на знакомые родинки, на коротенькие колючки над верхней губой. Что-то внутри Норы дрожало и щекотало ее, трепыхаясь, как пух одуванчиков на ветру. «Неужели я действительно когда-то его не знала и была счастлива?» — думала Нора, стараясь запомнить и остановить в своей памяти волнующую близость и запах воздуха, который выдыхал мужчина, заставивший ее забыть, что когда-то она жила без него.
«Интересно, как он ее называет? — думала Нора. — Просто Алина? — или придумывает ей имена, как мне… колокольчик… цветеныш…»
Нора встала с кровати, села в кресло и взяла со столика бокал с недопитым шампанским. Шампанское выдохлось. На вкус оно было противным и теплым.
Аккуратная стюардесса прошла мимо, улыбнувшись Норе. Нора тоже ей улыбнулась. Потянулась за вазочкой с черникой. На столе остался открытым ноутбук Бориса. Нора взяла его, вернулась в кровать, устроилась полулежа и положила ноутбук к себе на колени. «Хоть в пасьянс поиграю», — подумала она. Борис несильно всхрапнул.
На рабочем столе было много значков: «партия», «институты», «отчеты». «Фотографии».
Нора открыла папку с фотографиями и пролистала файлы. «Сардиния, лето …. года» — прочитала она. «Лето, когда мы познакомились, — подумала Нора. — Их последний отдых вместе с женой до меня».
На фотографии белокожая женщина в желтом купальнике сидела в кресле, держа в одной руке книжку неизвестного Норе автора. В кадр вошел кусок большого тента, под которым женщина пряталась от солнца. Рукой с книжкой она как будто шутливо отмахивалась от кого-то. «Наверное, Борис фотографировал», — подумала Нора. Женщина смеялась розовыми губами, глядя с монитора на Нору. На ее щеках были ямочки. Нора вглядывалась в фотографию, пытаясь найти изъяны в Алининой фигуре и, не найдя, расстроилась.
«Почему я не могу глаз оторвать от фотографии женщины, которой я разбила жизнь? — подумала Нора. — Или это она мне разбила жизнь?»
Внизу экрана Нора заметила свернутый файл со значком эксплорера. «Надо же, — подумала она, — мы уже часа два как не в Интернете, а страница висит открытая. Борис забыл закрыть».
Она развернула страницу.
Это был личный почтовый ящик Бориса. Он был открыт на письме от Алины.
Пятнадцатая глава
All that I have is all that you’ve given me.*
Песня, которую лет десять назад крутили вездеМне всегда было проще писать, чем что-то произносить. Особенно объясняясь с тобой. Каждый раз, когда я пытаюсь извлечь из себя первый звук, чтобы выразить боль — привычную, как кошачья вонь в нашем старом подъезде (в подъезде, где я была счастлива от того, что в грязи окаменевших ступеней была грязь и твоих ботинок), которая от того, что непобедима и постоянна, не притупляется, а наоборот, становится все ненавистней, звук столбенеет — так бывает во сне и у Кафки: жизнь вдруг останавливает действие старых законов, замирая в не поддающемся старой логике трансе, и становится невозможно куда-то дойти, закричать, побежать или хотя бы, как я, просто вымолвить слово, и только таращишь глаза от ужаса и бессилия, от того, что твой голос тебе изменил, и тяжесть земли неожиданно больше тяжести собственной воли. Сколько раз, засыпая одна, я выуживала из потоков самых пронзительных слов, меняя одни на другие, капли горестных жалоб, леденящих проклятий и таких отравленных обвинений, чтобы смогли парализовать тебя в полушаге и полумысли и навсегда лишить твое с этих пор обездвиженное будущее его главного капитала — несокрушимой самоуверенности. Боже, как я мечтала, что вылью эту лавину тебе под ноги, и ты захлебнешься, барахтаясь в очередной своей лжи, у меня на глазах; как я хотела заразить твою спелую жизнь гнильцой, как яблоки на нашей старой даче (на той даче, где я была счастлива от того, что в илистой луже, которую мы называли прудом, были капли и твоего пота). Но я не буду. Я уже приняла решение и освободилась. Изменить ничего нельзя, а можно только поплакать на этой — не бумаге даже, а тусклой клавиатуре — о том, как мы жили с тобой двадцать лет. Двадцать лет, Борис! Двадцать вдохов и выдохов. Я немножко поплачу, можно? Я уже и не помню, какой я была до тебя, и была ли вообще. Каждый взмах своей мысли, изгиб неприхотливой (совсем не такой, как твоя) фантазии я пропускала через тебя, гадая и взвешивая, как ты оценишь меня в этом платье, с этой походкой, с этой душой. Даже не помню, когда я впервые наткнулась на то, что больше не понимаю, как же это бывает, когда хочешь чего-то сам. Я отвыкла иметь желания, отличные от твоих. Моими собственными оставались разве что страхи — вкрадчивые и зловонные страхи, их приходилось скрывать от тебя — никаких утешений мне все равно не дождаться — ты удостаивал их лишь недоуменной брезгливости — и то было много: взрослая женщина, как ты можешь бояться темных комнат? — а все остальное: мечты, устремления, убеждения — все было твоим. Мои ноги липли к педалям каждый раз, когда я садилась за руль, но что могло быть смертельнее твоего разочарования? — я научилась водить, а потом научилась беседовать о курортах и винах с твоими друзьями и быть с ними ровно такой, какой ты хотел меня им показать. Даже сына — игрушечного младенца, родившегося сразу с твоей величественной складкой раздумий на лбу и с твоим решительным подбородком — я родила не потому, что хотела сына, а потому что в моей власти это было единственным, что я могла подарить великому человеку, каким ты был для меня всю жизнь и останешься после смерти.