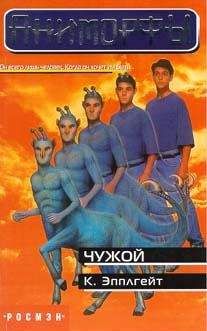Светлана Метелева - Чернокнижник (СИ)
Запомнился среди прочих обычай писать на титуле проклятие вору; один из кодексов XIII века открывался пожеланием: «Quern si quis abstu-lerit, morte moriatur, in satagine coquatur; caducus morbus instet eum, et febres; et rotetur, et suspendatur. Amen». «Тот, кто это украдет, пусть умрет страшнейшей смертью; вариться ему в адовом котле; болеть ему падучей, сгорать в лихорадке; да будет он четвертован и повешен». В книгу конца XVII века из доминиканского монастыря Болоньи была вклеена этикетка: «Выносить запрещается под угрозой отлучения от церкви, согласно декретам папы Урбана VIII и папы Иннокентия XII». После вместо этикеток стали делать специальные экслибрисы: часто изображались повешенные. Как уточнил Комментатор, на французских экслибрисах в петле болтался Пьеро. И я вспомнил старуху с картами Таро и выпавшего мне Повешенного…
Однажды вычитал, как в средние века наиболее ценные кодексы библиотеки приковывали цепями к полке или читательской стойке. Их и называли так — прикованные книги, catenati libri; говорят, что в некоторых старых монастырях их можно встретить и поныне.
Обратил внимание на многочисленные истории библиотечных краж — все они были похожи; во многих ворами становились вполне добропорядочные люди только потому, что оказанное доверие грешило чрезмерностью, а искус был слишком большим.
Граф Либри родился в третьем году девятнадцатого века во Флоренции. Уехал во Францию, сделал блестящую научную карьеру — стал профессором College de France, членом Академии, кавалером Почетного легиона. Затем его назначили главным
попечителем всех французских государственных библиотек. Похоже, последнее отличие душа его не вынесла: граф прилежно работал днем, а ночами воровал книги. Спустя два года после его ареста библиотеку Труа продолжил грабить сам директор — некий Огюст Арман. Тридцать лет держалась за ним репутация честного человека, и все эти тридцать лет он таскал домой книги.
Я перечитывал рассказы о сумасшедших книжниках, что становились убийцами в погоне за первым изданием, о неутолимой жадности библиофилов, что шли на обман, подлог, лжесвидетельство, чтобы взять в руки и назвать своим редкий экземпляр; я искал и находил в трухлявой многовековой толще все тех же — Киприадиса, Климова, Соловьева, Новикова. И странное дело: оказывалось, что таких, как они — жадных до денег, до ощущений — в общем, и немного было в криминальной библиофильской истории.
А еще другое поразило меня — не так уж страшны были воры для книг. Гораздо чаще книги уничтожали — массово, беспощадно, не заботясь ни ценой их, ни ценностью; с начала веков неостановимо шел по миру книжный геноцид; Комментатор нашел даже цитату об этом. «Против книг велись такие же войны, как и против народов. Римляне сжигали сочинения евреев и христиан; евреи — книги язычников и христиан; христиане бросали в костер труды евреев, язычников и еретиков. При взятии Гранады кардинал Хименес испепелил пять тысяч Коранов. Несметное множество не нравившихся им книг сожгли английские пуритане. Один английский епископ спалил библиотеку собственного храма. Рассказывают, что и Кромвель отдал приказ сжечь библиотеку Оксфордского университета».
Четыреста тысяч свитков Александрийской библиотеки сгорело, когда город был взят войсками Цезаря. Тридцать тысяч уцелело — но зачем? Для того лишь, чтобы спустя три столетия были сожжены и они — александрийским епископом Феофилом.
Католики жгли протестантские Библии, Кальвин жег Библии католические. Сочинения Спинозы сжигались и католической, и протестантской, и иудаистской церквями.
Но после аутодафе над безответными кто-то и под пеплом находил золото. Те немногие уцелевшие экземпляры, которым посчастливилось избежать огня, становились предметом неслыханного торга среди антикваров, драгоценной добычей стервятников; цена взлетала до небес, за ними охотились, их выслеживали, продавали и покупали. Комментатор принес однажды вырезку из старого журнала — там была описана история Мигеля Сервета, автора самой редкой книги в мире. Испанец, родом из Арагоны, он писал трактаты по философии и теологии, нападал на основные христианские догматы. В Женеве был осужден кальвинистами, схвачен и приговорен к казни на костре. Приговор гласил: «Мы, Синдики, уголовные судьи этого города, выносим и излагаем письменно наше решение, согласно которому тебя, Мигель Сервет, мы приговариваем в оковах быть доставлену на площадь Шампль, привязану к столбу и заживо сожжену вместе с твоими книгами, писанными и печатанными тобою, до полного испепеления». В октябре одна тысяча пятьсот пятьдесят третьего года состоялась казнь; в течение двух часов горел Сервет — ветер все время сдувал пламя. А философ кричал: «Дайте мне умереть! Сто дукатов отобрали у меня в тюрьме, неужто не хватило на дрова?». А книга его «Восстановление христианства» — та, чей тираж горел рядом — вышла в свет за несколько месяцев до казни. Она не успела распространиться — и долгое время считалось, что палачи сожгли все. Однако годы спустя один экземпляр ее был обнаружен в Англии.
И я думал: не оттого ли возникало стремление человеческое — уничтожить хрупкие страницы, разорвать переплет, выжечь огнем название — что те, кто выносил приговор книгам, в глубине души страшились Великой тайны письма, которую однажды раскрыл мне монах Умберто? Не книги они убивали — уничтожали новый сотворенный мир, выбирали плевелы изменений, боясь, что они воплотятся, станут явью, пусть не сейчас, не здесь, но — где-то; в будущем, в прошлом, в вечности…
Спустя четыре года — все это время жил я тихо, незаметно, работал — Комментатор, спасибо ему, пристроил меня на незначительную должность в одно ветеранское объединение — освободился Женька, вслед за ним — Славик. Женька сразу же нашел меня, да и несложно это было.
Он изменился — я бы, пожалуй, и не узнал его, если бы не глаза. Уверенный в себе, насмешливый, спокойный — какой же контраст представлял этот человек с тем, другим, рисующим слепых в тесной камере спецкорпуса «Матросской тишины»… Я все всматривался в него, пытался понять: что же случилось? Что было потом? И видел — одну оболочку; невозмутимую внешне, вполне законопослушную, готовую жить по правилам — но и только. Вспомнил и слово — мимикрия. Он поменял цвет; слился с фоном, с толпой; он больше не станет убивать, не преступит закон… Вот и все. Когда-то до смерти напуганный парень хватал меня за руки, умолял выколоть ему глаза — теперь он научился жить без глаз…
Я поделился с ним своим планом — вернуть то, что украл. Он обещал подумать — и уже через пару дней позвонил; сказал — напал на идею. Познакомил меня с журналистом крупной газеты — Максимом; тот взял интервью, сфотографировал. Я рассказал обо всем: как воровал книги, как умирал от туберкулеза в страшной больничке Матросской тишины, как оставались без ответа мои письма и жалобы. Материал опубликовали. Меня это сперва удивило: надо же — напечатали, заметили… Верховный суд и прочие органы — куда я только ни обращался за все эти годы! — хранили абсолютное, равнодушное молчание. Не потому ли, что чиновники работают с другими словами, иными текстами — требующими только необсуждаемого исполнения? Чиновники живут бумагами; а в моих жалобах было слишком много человеческого. В газете — все иначе: живые люди пишут для живых людей. Заметка живет мгновение — но подразумевает отклик…
Никогда до конца не верил я в так называемую «четвертую власть»; но сила слова проявилась — сполна, внахлест, больше, чем ждал и думал. После публикации мне позвонил ректор Нового университета; это образовательное учреждение сейчас занимало то самое помещение на Вильгельма Пика, рядом с библиотекой. Ректор — мужчина чуть старше пятидесяти, лощеный, холеный, в дорогом костюме и с ленинской хитрецой в глазах — как оказалось, уже давно присматривается к хранилищам и фондам: пытался взять библиотечное хозяйство на баланс своего вуза, но почему-то не дали; пробовал инициировать инвентаризацию — запретили. Его интерес к сохранности фондов многих обеспокоил — скандалы посыпались, как соль из прохудившегося мешка.
Он рассказал мне, что инвентаризация здесь не проводилась с девяносто третьего года — того самого, что был отмечен триумфальным въездом в здание господина Киприадиса. Объяснил: по правилам ценнейшие книги проверяются ежегодно, редкие — раз в три года, ценные — раз в пять лет. Посетовал: мол, до сих пор время от времени отсюда пытаются украсть раритеты. Не так давно охрана вуза задержала машину с подшивками старых, тысяча девятьсот восемнадцатого года, газет. Нынешний директор библиотеки заявила, что вывозят их якобы «на микрофильмирование».
— Я уверен, Борис, — так сказал ректор в первую же нашу встречу, — что и до вас здесь совершались хищения. — В этой библиотеке хранилась переписка Ленина и Инессы Арманд. В девяносто втором вдруг исчезла загадочным образом — и появилась на Западе.