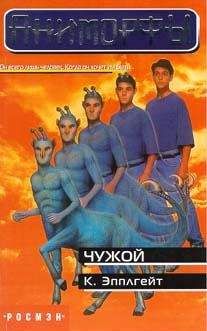Светлана Метелева - Чернокнижник (СИ)
А что они ищут? Они ведь даже не знают, что и где и искать…
Похоже, для правосудия раскаявшийся зэк хуже татарина. В целом картина такая: похищены особые культурные ценности. Но определить, какие именно, невозможно, поскольку ревизия якобы займет несколько лет. Вывод — не захотели. Значит — выгодно не заявлять определенные книги. И рукописи. В списке похищенного фигурируют всего две, а ведь украл я гораздо больше. Установить их пропажу — дело пяти минут. То есть, нужно, чтобы действительно ценное не попало в списки украденного. Тень вечного Киприадиса накрывала мое дело. Неужели так высок уровень его связей?
А экспертиза? А оценка? Два экземпляра двухтомника Фурье. Это издание было выпущено всего в трехстах экземплярах, и все — с автографом самого Фурье. Я взял за него восемь тысяч долларов — у Новикова. И то — знал, что реально стоит двухтомник гораздо дороже. Потом, помню, смотрели вместе с Комментатором в каком-то каталоге — около тридцатки. А вот результат экспертизы следствия — двести долларов за два тома.
Я ничего не понимал. Расследование было похоже на аферу. То же мошенничество — только безымянное. Следствие превратилось в акт списания ценностей. Что украли, не важно. Нашли или нет — тоже ерунда. Главное — попытки вернуть были. А результат никому не интересен.
Но, может, я ошибаюсь? Может, дело не в связях Киприадиса и не во взятках? Просто — формализм правосудия достиг критической точки. Интерес следствия — вовремя закрыть дело, уложиться в срок. Интерес государства — наказать преступника, возместить ущерб. С первым пунктом справляются — хоть и не всегда. Второй размывается. Итог: преступник (я, к примеру) может осознать ошибку и исправить ее. А следствие не может — ни исправить, ни осознать…
Выходит — государству ценности не нужны? А правосудию не нужно мое раскаяние? И если никому ничего не надо, то зачем тогда я все это делаю?
Не знаю… Но отступиться не могу. Я украл. Я должен вернуть. Никому не надо — и пусть. Мне — надо. А, раз так — что остается? Одно: возвращать книги самому.
Найти всех тех, кому когда-то их продал. Упрашивать, требовать, обходить хамство и угрозы. Это-то — пусть, ерунда, не впервой. Можно попробовать иначе. Скажем — сначала заработать, потом — выкупить свои книги. Но — получится ли? А, может быть, — поискать спонсора? Какого-нибудь мецената, всерьез озабоченного духовным наследием и возвратом исторических ценностей… И — нарваться опять на какого-нибудь Киприадиса? Ладно. Нечего раньше времени переживать.
До конца срока осталось четыре года, два месяца, семнадцать дней…
* * *…Утром привели новичка. Звать — Игорь. Конкретная напасть на нашу камеру. Украл четыре пары обуви. Сколько же таких сидит по России — за две пустые сумки, тридцать килограмм меди, четыре пары обуви….
Странные мысли лезут в голову. Никогда раньше не задумывался о государственном несовершенстве. А сейчас — слишком часто. Какой-то необъяснимый, почти коммунистический протест зреет внутри. Откуда вдруг? Может, потому, что именно здесь, в тюрьме, наблюдаю, как сталкиваются лбами две системы: воровская и правоохранительная. И вторая постоянно проигрывает. По одной причине: эта, законная, официальная система не хочет защищать своих. Они не видят людей. И потому так нелепо наказывают и так безжалостно уничтожают. Но никому при этом лучше не становится. У воров все иначе…
…Молиться по-прежнему не могу…
* * *— Боря, слышишь, Борь?..
Я даже вздрогнул — Женька подкрался неслышно, присел рядом на корточки. Завтра у него суд. Ни разу за все время не напоминал про мое обещание. По-моему, все же — смирился, заодно Новый Завет вызубрил почти наизусть. И весь последний месяц готовился к смерти.
— Чего ты?
— Боря, ведь по Библии — все в руках Господа, так?
— Ну, так.
Неужели опять за старое?
— И все в жизни предопределено, — продолжал он полушепотом. — А раз так, получается, я не виноват. Просто у тех, кого я убил, на роду было написано так умереть. И, значит, я — только орудие…
Вздохнул. Ну, что ж…
— Нет, Женя, не передергивай. Предопределение — это не так прямолинейно. Помнишь школьный пример — «казнить нельзя помиловать»? Так вот: запятую в этой фразе ставишь ты. Если решаешь — казнить, то есть, убиваешь, прерываешь чужую жизнь — эта запятая отражается и на твоей судьбе. Это — твой приговор тоже. Твоя книга, может, и написана на небесах. Но знаки препинания всегда остаются за нами.
Он молчал, думал. Потом — так же молча — вернулся на свою шконку, лег лицом к стене.
Он не будет спать этой ночью. Будет метаться от отчаяния к надежде. Мечтать — о любом приговоре, кроме этого — высшая мера. Вспоминать свою жизнь, может быть, плакать. И молиться. У него — получается…
* * *Весь оставшийся день — его увезли в обед — я ждал. Напряженно вслушивался в шорох шагов дежурного. Ловил отголоски, угадывал знаки, опровергал предчувствия. Трижды сыграл в нарды: обычно это занимало минут сорок; а сейчас посмотрел на часы — почему-то прошло всего двадцать пять. Пытался уснуть — не вышло. Слышался голос — все время, неотступно, заглушая разговор сокамерников; крик — чужой, не мой и не Женькин. Точно тоскливо рычал и жалобно выл — кто-то; не знал и не помнил, кто — незнакомый, не здесь, не теперь. Просил выколоть глаза — потому что не видит Бога. Пробовал написать что-нибудь — не пошло. Ждал. Старался угомонить и успокоить болезненное нетерпение, судорогу торопливого страха.
Славик тоже ждал. И он, и Кирюха. По-другому, не так, наверное, как я, но жадно ловили шевеление воздуха за дверью. Так и сидели — допоздна — втроем. Иногда переговаривались тихо — остальные уже спали. Но — не о Женьке. О посторонних вещах.
Как всегда бывает — прокараулили. Камера открылась неожиданно. Конвойный завел его, закрыл с той стороны дверь.
Встали, окружили. Он не был испуганным, не был шокированным. Он просто был до крайности удивлен.
— Женя, что? — спросил Славка, схватив его за руку.
Женька, словно не понимая, посмотрел. Пожал плечами. Ответил:
— Восемь с половиной лет…
— Сколько?!
Кажется, Славик и Кирюха сказали это хором. Я молчал.
Женька повторил — пробуя слова на вкус, на ощупь, в сотый, наверное, раз; забирая слова — себе, убеждая свое сознание в том, что не ошибка, не шутка, — правда:
— Восемь с половиной лет особого режима. — И пояснил — для меня: — Оказывается, почти все убийства совершил до восемнадцати. Поэтому так мало дали. Как несовершеннолетнему.
…Ноги подогнулись — я опустился на колени, повернулся — туда, где висела икона…
— Господи Иисусе Христе, милостив будь ко мне, грешному…
…Сколько раз повторил я эту нехитрую молитву мытаря? Не помню. Помню только, что с каждым вздохом я как будто проваливался в бездонную черноту, которая одна только…
(здесь запись обрывается — по всей видимости, из дневника было вырвано несколько страниц — Авт.).
Глава 7
Октябрь 2006 года.
…В колонии дал я себе обещание — не писать ни строчки до тех пор, пока не начну выполнять План. И вот — возвращаюсь к своим записям.
Точно унесенные ветром листья, пролетели эти годы; прошелестели перебором страниц; остались промельком памяти. Сначала была часовня — в том исправительном учреждении, куда помогли мне отправиться — по доброте и дружбе — оперативники МУРа; недалеко от Москвы, в Тверской области. И отец Александр, мягкий, бескорыстный и сострадательный; никогда он не отказывал мне ни в разговоре, ни в исповеди, а в конце срока дал свое благословение на поиск и возврат государству украденных книг. Первый год после освобождения я работал сторожем на стройке: жил в крохотной бытовке, почти ни с кем не встречался — но и такая жизнь отзывалась раем, и землей обетованной был холодный строительный вагончик со старым обогревателем и собранной каким-то умельцем маленькой плиткой.
Казалось — вошел в жизнь по-новому; уже не с черного хода, озираясь воровато — но и не с парадного, поскольку нет в жизни парадных подъездов. Как все вошел — скрипнувшей калиткой; узкой, но чистой тропой. Теперь не надо было оглядываться, пробираться на ощупь, рискуя сломать шею; не имело смысла подозрительно таиться — и слава Богу. Был только покой — тихий, незамутненный — и мне нравилось это…
Иногда наведывался ко мне Комментатор — он не изменился, все так же хитро поблескивали узкие китайские глаза, так же неторопливо и замысловато плелось кружево слов, собирался бисер фраз и четки повествований. Вместе с ним начал я собирать истории о книгах — о том, какие гонения пришлось пережить за долгую историю человеческую хрупким томикам и тяжелым альбомам; о книжных ворах — таких же, как и я; о наказаниях и казнях.