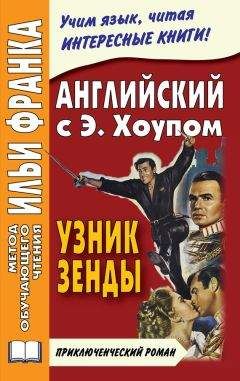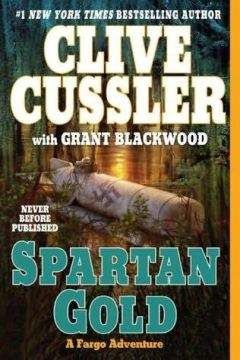Ласло Немет - Избранное
— Не тревожь себя, Юли, — успокаивала ее Хорват, — ужо и мы присмотрим за ней, сама не управлюсь, так дочку пошлю. Отвлекать ее надо, чтоб не задумывалась. Такая молодая, двадцать пять лет, другая только-только жить начинает. Надо убедить ее, что и у нее еще может быть счастье впереди.
— Плохо вы все ее знаете, — вздохнула мать. — Не такой у нее характер. И надо ж, чтоб беда молодых настигала! Лучше бы меня, старуху, смерть унесла!
От великого усердия неугомонная тетка Хорват заходила все дальше; жене механика Лака она рассказывала уже, что Жофи объявила матери: ничего мне ни от кого больше не нужно! А жена механика и сама, оказывается, слышала, что накануне вечером у Жофи силой вынули из рук бутыль со щелоком. Говорила ей про это Пордан, а та слышала от Мари. Лиди Хорват сама была в тот вечер у Жофи и знала, как все было, но возражать не стала, только кивала: да-да, нужно как-то помочь бедной Жофи, ведь совсем еще молодая; правда, у нее, Хорват, дел невпроворот, но она все же каждый божий день к Жофи забегает или дочь вместо себя пошлет. И сестре наказала накрепко ни на минуту не оставлять Жофи одну. Жена механика прежде почти не бывала у Жофи, но теперь обещала наведываться к ней как можно чаще: детей у нее нет, с глухим мужем много не поговоришь, а вечера-то длинные. Надо помочь бедняжке эти первые, самые тяжелые дни пережить, время-то все перемелет. Вот сейчас ей тяжко — а там, как знать, может, неспроста господь забрал Шанику к себе, по крайней мере у бедняжки-вдовы теперь руки развязаны.
Напрасно Жофи твердила сестре, чтоб шла она домой, ей уже ничего не нужно, — Мари неловко стояла на своем: она, мол, со всей охотой, да и Кизела ее поддерживала — ведь это и вам, милочка, хорошо, покуда привыкнете спать одна. У Жофи не хватало сил защищаться. Полночи слушала она, лежа в постели без сна, здоровое посапывание Мари и не раз уже готова была броситься к сестре, растрясти, выставить ее на кухню — но так ничего и не говорила, только подушки кусала, злясь, что кто-то рядом может спать так спокойно. Думала она о словах доктора: «Мальчик очень заразен…» А что, если и она заразилась — вот как будто тяжелее дышится… Жофи испуганно садилась на постели, и проходили долгие минуты, пока унималось биение крови в шее. Почему они заставляют Мари спать с нею и почему мать каждый вечер говорит на прощание, заливаясь слезами: «Ну, Жофи, гляди, голову-то не теряй». Однажды вечером пришла крестная Хорват кофейку попить, и Жофи взялась резать хлеб, но мать подскочила, выхватила кухонный нож из рук — сама, мол, нарежет. Может, боятся, чтоб над собой чего не сделала? А если б и сделала, разве не права была бы? И чего она трепещет так по ночам, стоит сердцу заколотиться чуть сильнее? Подумаешь, большое дело — смерть! Если маленький Шаника мог ее выдержать, выдержит как-нибудь и она. Однако ночью она опять пугалась своего прерывистого дыхания, а днем с ненавистью и ужасом принимала тех, кто являлся к ней с выражением участия; они приходили, конечно, чтобы развеять ее горе, но делали это с таким видом, как будто утешениями своими принуждали ее к чему-то страшному. Утром было еще терпимо. После бессонной ночи к рассвету начинало клонить ко сну, но Жофи все же не оставалась в постели и, кое-как одевшись, садилась подремать возле окна. Если кто-нибудь неожиданно входил к ней, она не вздрагивала, а только медленно поворачивала голову, как будто и не спала, а просто задумалась. Потом она выходила на кухню, во двор, делала что-нибудь по хозяйству, готовила себе легонький суп или яичницу, бросала курам зерно и уходила к себе, печально, вполголоса отвечая на вопросы поминутно заглядывавшей Кизелы.
Утром тоже забегали родственницы, все они говорили одни и те же слова, и она одинаково всем отвечала. Но под вечер карантин участия замыкался полностью. Всегда были тут как тут крестная Хорват и мать, чуть не каждый день являлась жена механика, зачастила с другого конца деревни Пордан; даже поденщица решалась иной раз наведаться, но скромно оставалась стоять у дверей. Все эти гостьи, прежде чем войти, ниже надвигали платки на глаза, втягивали головы в плечи, а усевшись, смотрели на нее из-под своих платков, как на тяжелобольную — так же, как на Шанику, когда он был еще жив. «Ну, как ты живешь, Жофи?» — спрашивали они после длительного молчания, угревшись на своих стульях. Это молчание было знаком уважения к горю Жофи; они как бы давали знать, что душе их надобно время, чтобы настроиться на скорбный тон этой комнаты, — но молчание приходилось очень кстати еще и потому, что давало время отыскать на лице Жофи новые бороздки, высеченные горем, и прочитать по угасшим ее глазам, что показывает барометр скорби. И в самом вопросе: «Ну, как ты живешь, Жофика?» — не было и следа сомнения, что Жофи может жить как-то иначе, а не так, как, по их мнению, ей положено. Что было Жофи отвечать на этот вопрос? Сперва она вообще не произносила ни слова и только пожатием плеч показывала, сколь бессмысленно спрашивать ее об этом: «Как могу я жить!» Потом, когда вопрос повторился десять, двадцать, сто раз, она стала отвечать все более резким и вызывающим тоном, бередя собственные раны и одновременно давая понять любопытствующим, что она не из тех, у кого может быть еще какая-то особая жизнь, о которой имеет смысл спрашивать.
«Хоть бы и это уже кончилось», — говорила она с горечью, или: «Все еще не в могиле». Иной раз в ответе ее звучала ирония: «Сами видите, крестная. Как на собственной свадьбе». Иногда отвечала с намеком: «Вот бы еще самую малость, и тогда уж мне совсем будет хорошо, крестная». Хорват беспомощно вздыхала, но в общем с удовлетворением принимала к сведению эти фразы, которые вполне отвечали ее ожиданиям. И чем более резко и отстраняюще они звучали, тем непоколебимее считала Хорват своим долгом вновь и вновь задавать этот вопрос. Ибо если Жофи обязана была каждый раз подтверждать, как далека она от всех людей, которые как-то еще живут, то обязанностью ее крестной было доказывать, что и после случившегося она все-таки относит племянницу к числу тех, кого можно и нужно спрашивать о житье-бытье. Выслушав очередную горькую отповедь, Хорват долгими вздохами как бы освящала страдания молодой женщины — да, она понимает, после таких ударов судьбы племянница и не может говорить иначе, — но потом укоризненно качала головой: «Ты еще молодая, Жофи, время все возместит». Но у Жофи и на это готов был ответ: «Пусть время вернет мне мужа моего да сыночка, если возместить хочет». — «Молодая ты еще, Жофи», — вздыхала Хорват, но этот довод особенно задевал Жофи. Горькое раздражение слышалось в ее надтреснутом, дрожащем голосе:
— Все бы такими молодыми были, как я. Да я матери собственной старее, она-то еще ни мужа, ни сына не Схоронила. Не только годы человека старят, крестная.
На это уж и Хорват не знала, что ответить. Пробормотав только: «Ну что ты!» — она опять заводила речь про целительное время да про то, как она сама забыла же вот и отца и мать свою и даже младшего братика, что погиб на войне.
— Это все другое, — только и говорила Жофи, а в горькой складке губ гнездилось готовое вырваться: «Всех бы отдала, не задумываясь: отца, мать, сестер, — если бы могла воскресить хотя бы только сына!» А Хорват, поглядев на горько сжатые губы, складывала оружие и только кивала да вздыхала; пыталась еще вспомнить особые словечки Шаники, но Жофи не отзывалась, и она умолкала; ее душа-невеличка совсем терялась в тепле печки, толстого шерстяного платка да жирных телес ее, и она лишь тяжкими вздохами, изредка вздымавшими грудь, могла выразить свое участие.
На счастье, являлись новые гости, тоже с вопросом: «Ну, как поживаешь, Жофика?» — и уже с другой стороны начинались неизменные увещевания. Жена механика Лака, женщина необыкновенно словоохотливая, например, не возражала Жофи, получив резкий ответ, а тотчас начинала скороговоркой сыпать свое, то и дело почесывая кончик носа, и получалось, что она, говоря, то прикрывала рот ладонью, то открывала, а иногда еще и покручивала как-то нос свой пальцами. Ее быструю, монотонную речь разнообразила не интонация, а манера говорить в ладонь или крутить нос. Детей у нее не было, но в давние времена, когда Лак еще кузнечил в графском имении, родился у них, по ее словам, сын, умерший шести недель от роду, и сейчас она снова вызвала его к жизни ради утешения Жофи.
— Уж я-то знаю, душенька, каково оно в это время, мне про то рассказывать не надо. Когда приехал муж мой на господских лошадях да подняли из соломы тот гробик (чудо, какой был гробик, медью весь окованный, тут уж я денег не пожалела, не-ет, хотя мы тогда в бедности жили), так, по мне, лучше бы земля под ногами моими провалилась, чем этот ящичек крохотный увидеть. Вот, голубчик ты мой, где тебе жить теперь придется, вот зачем я на свет белый тебя народила, будут теперь товарищи твои черви земляные… Ох, да муженек ты мой дорогой, не хочу я больше детей, такого-то все равно никогда уж не будет (а у него и правда такие ангельские глазки были, прямо райские глазки, да и только). Пусть я лучше помру, будто смоковница бесплодная, но только не желаю я, чтобы такое дитятко-золотко на руках у меня еще раз застыло (заворот кишок у бедняжки случился, в неделю его скрутило, я себя все виню, может, в кормлении что напутала, но я ведь в те времена уж такая темная была хуторяночка). Муж говорил мне: не плачь, Розика, господь взял, господь и еще даст (тогда-то он не был такой ворчун, старый хрыч; повредила бедному кузнецкая его работа да палинка, чтоб ей пусто было). Но я тогда и имя господне слышать не хотела, на неделе два раза на кладбище ходила, в деревню, а это было от нас как отсюда до Торни. Но я чаще-то парадного кучера господского подвезти просила; когда он за гостями на станцию ехал, так я за садами садилась прямо в коляску, ну, а обратно уж кое-как плелась на своих двоих. Приду, а глаза воспаленные от слез, ведь всю дороженьку до самого дома, бывало, ревмя-реву. Наконец муж мой как налетит на меня: чего воешь по недоноску этому — нет его, и дело с концом, а не то гляди, молотком настигну тебя. Он это не от злого сердца, хрыч старый, просто не знал уж, что и делать со мной. Но я совсем была не в себе: бей, говорю, убей до смерти, больней все равно не будет, чем от длани господней. Ну, тут уж и ему совестно стало. Так что знаю я, голубка, как это страшно. Хотите верьте, хотите нет, а я его и сейчас иной раз во сне вижу — лежит в колясочке, ручонки тянет; уж такие рученьки у него были сладкие, с перевязочками… а ведь тому уже тридцать лет! Так что жизнь все-таки идет, я же еще и старичка своего уговариваю, когда он разворчится, — на кой, мол, ему машина эта нужна, пусть молодые с ней мучаются, был бы ребенок, тогда хоть понятно, ради кого копить. Но я его и подбадриваю: да если б, говорю, не машина и не кузня твоя, так только корчма и остается — что, не правда, что ли, старый хрыч? Уж лучше в работе надорвись, чем над бутылкой. В старости-то так вот разговаривают между собой.