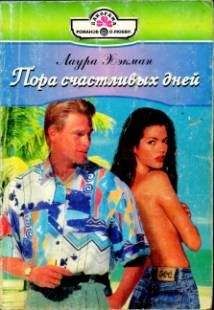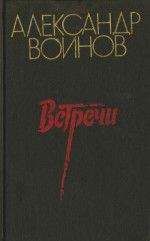Дуглас Кеннеди - Пять дней
— А вообще, родителей когда-нибудь покидает чувство вины?
— Вы и вправду хотите, чтобы я отвечал на этот вопрос?
— Едва ли. Потому что после того, что случилось с моим сыном Беном…
Тогда-то я и рассказала ему про сына — про то, что он подающий надежды художник, про то, как с ним случился нервный срыв, когда его бросила избалованная богатенькая девица, про то, что он уже принимал участие в одной крупной престижной выставке и…
— Значит, Бен у нас будущий Сай Твомбли.[34]
И снова я с немалым удивлением посмотрела на Ричарда и заметила:
— Вы еще и современных художников знаете.
— В две тысячи девятом году ходил на итоговую выставку его работ в Художественном институте Чикаго. В сущности, специально придумал для себя командировку, чтобы посетить ее. Самое забавное, что мой отец — бывший морпех, человек традиционных взглядов — тоже увлекался искусством. Только он тяготел к таким художникам, как Уинслоу Хомер[35] и Джон Сингер Сарджент,[36] что тоже неплохо, признак хорошего вкуса. Втайне отец всегда мечтал быть художником. В гараже он устроил себе мастерскую. Пробовал себя в жанре марины. У него неплохо получалось. Некоторые из своих работ он раздарил родственникам. Одна бостонская галерея даже выставила на продажу несколько его этюдов с изображением морского побережья. Но их никто не купил. И отец, будучи тем, кем он был, решил, что это знак: он плохой художник. Хотя мама — а она была святая — и его брат Рой убеждали его в обратном. Однажды ночью, в очередной раз напившись — причем дешевым виски, — он пошел в гараж и сжег все свои картины. Взял и сжег. Свалил два десятка полотен на газон, залил их керосином, чиркнул спичкой. Вжих. Мама нашла его сидящим у костра. Он был пьян, все лицо в слезах, грустный, злой на весь мир… но особенно на самого себя. Ибо он понимал, что сжег все свои надежды и возможности, сжег жизнь, которая могла бы у него быть, кроме той, что он создал для себя. И я, четырнадцатилетний мальчишка, наблюдая за всем этим из окна своей спальни, говорил себе, что никогда не стану жить так, как мне не нравится…
— И больше живописью ваш отец не занимался?
Ричард покачал головой.
— Но он выбранил вас за то, что вы посмели напечатать один свой рассказ.
— Жесткий был человек.
— Или он просто позавидовал вам. Отец моего папы был такой же. Он видел, что его сын — блестящий математик. Учителя и школьные методисты настояли, чтобы отец разослал свое резюме во все престижные вузы — от Гарварда до МТИ, — и его всюду приняли, как и вашего Билли. Только папин отец был не такой хороший родитель, как вы. Гениальность сына приводила его в тихую ярость, и он всячески старался помешать развитию его таланта. Настоял, чтобы отец отказался от поступления в МТИ, где ему предлагали полную стипендию, якобы на том основании, что скобяная лавка (их семейный бизнес) захиреет, если папа не будет там работать каждые выходные. И папа подчинился — согласился на Университет штата Мэн, а потом каждые выходные приезжал в Уотервилл и всю субботу пахал в магазине моего деда. Вы можете представить, чтобы заставить одаренного юношу…
— Могу.
— О господи, сказала не подумав. Ради бога, простите.
— Не извиняйтесь. На правду нельзя обижаться. Как есть, так есть. И ничего тут не поделаешь. Видите ли, хоть мой отец тоже вставлял мне палки в колеса — а я далеко не так гениален, как ваш отец…
— Не говорите так.
— Почему? Это правда.
— А как же тот рассказ…
— Рассказ, написанный тридцать лет назад…
— И еще один, опубликованный несколько месяцев назад.
— Вы запомнили?
— Ну, вы же сами мне сказали вчера.
— Это так, пустяк…
— Кстати, этот пустяк я нашла сегодня в Интернете. И прочитала. И знаете что? Очень здорово написано.
— Серьезно?
— Человек смотрит на своего друга детства, которого якобы смыло со скалы на мысе Праутс-Нек… а теперь, как известно герою, тот проходит по делу о мошенничестве в бухгалтерской фирме, совладельцем которой он является. Прямо настоящий Энтони Троллоп.
— Это вы загнули.
— Но вы же наверняка читали «Как мы теперь живем»… ибо тема морального разложения личности и общества…
— Я не Энтони Троллоп. А маленькая портлендская бухгалтерская фирма едва ли тянет на крупную маклерскую контору лондонского Сити.
— Какая разница?
— Троллоп раскрывал тему одержимости человека деньгами. И то, что фоном ему служил Лондон в период расцвета Викторианской эпохи…
— А вы поднимаете те же вопросы — рабское отношение к деньгам и то, как это отражается на нас, — показывая события, происходящие в небольшом городе Новой Англии в период экономического кризиса.
Ричард смотрел на меня ошеломленно, явно не зная, что сказать.
— Вы как будто утратили дар речи, — заметила я.
— Ну, не каждый день меня сравнивают с великими прозаиками XIX века. И хотя я польщен…
— Да-да, знаю: вы этого не заслуживаете. Это всего лишь писулька в две тысячи слов в журнальчике средней руки. И отец ваш был абсолютно прав насчет вашей писанины. Теперь довольны?
Он взял свой бокал, осушил его.
— Прежде никто и никогда не хвалил мои писательские опыты.
— А жена ваша прочитала рассказ?
— Она сказала, что он читабельный, но очень уж тягостный.
— Она права в том, что рассказ интересный, увлекает буквально с первых строчек. Но самоубийство в конце оставляет невероятно гнетущее впечатление. Однако мне нравится лежащая в его основе двойственная мораль. Это как строчка из стихотворения Элиота «Полые люди»: «Между помыслом и поступком…»
— «…падает Тень».[37]
И когда Ричард закончил мою фразу, стихотворную строчку, что я цитировала, я, глядя на него, подумала: этот человек полон сюрпризов. И пожалуй, самым удивительным было то, что мне он казался очень… «притягательным». Точно, верное слово. Ричард на мгновение снял свои бесформенные очки в металлической оправе, потер глаза, и я в этот момент увидела, что напротив меня сидит отнюдь не непривлекательный мужчина, если не принимать в расчет его наряд гольфиста и очки страхового агента. Причем даже его седина приобрела какой-то более теплый оттенок. Я также заметила, что Ричард, когда он закончил цитировать Т. С. Элиота, посмотрел на меня по-другому: видимо, он тоже почувствовал, что-то в наших отношениях меняется. Один внутренний голос убеждал меня: это приятный интересный собеседник, не более того. Но другой голос, голос той части моего существа, которая всегда недоумевала, почему я постоянно втискиваю себя в какие-то рамки, настаивал на другом.