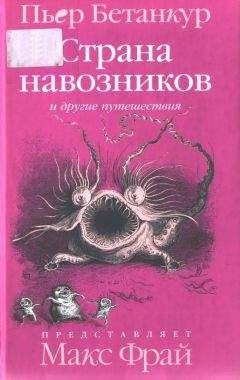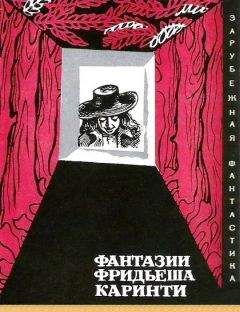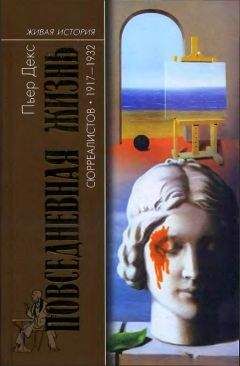Эли Визель - Время неприкаянных
— Я готов укрыть тебя здесь. И твоего слугу. Под моей защитой вам ничто не грозит.
— Нет, — ответил Хананиил.
Ошеломленный архиепископ поднял голову:
— Я перестаю понимать тебя. Разве не ты сказал мне…
— То, что я требую от тебя, не имеет никакого отношения ко мне и к моему спасению. Я требую, чтобы ты спас всю мою общину.
— Да ты сумасшедший! Куда мне деть ее, твою общину?
— Всех или никого.
— Но здесь нет места.
Лицо Хананиила приняло столь решительное выражение, что архиепископ заметно смягчился:
— Сколько людей в твоей общине?
— Несколько сотен человек.
— Включая детей?
— Да, вместе с детьми.
Архиепископ в отчаянии стал обдумывать, как отнестись к столь нелепому требованию.
Что до Хананиила, то он спрашивал себя, откуда пришла к нему эта сила, эта воля и даже дерзость перед лицом человека, воплощавшего могущество Церкви. Тогда он вспомнил о провале своего мистического предприятия.
— Я обязан сделать это для общины, да, обязан сделать хотя бы это.
Скоро, через час или два, я вновь увижу больную, истерзанную страданиями женщину.
Сам уже не знаю, что я такое перед лицом этого удручающего итога, этих людей, приговоренных жестокой судьбой. Из моего тайного романа и из моего детства. Всех этих женщин, всех этих мужчин, всех этих детей, пойманных ангелом воздаяния и смерти.
Зачем лгать себе? Я бреду с тяжелым, разбитым сердцем. Почему столько битв выигрывают подонки? Я повторяю слова рабби из Коцка: «Мир воняет». О да, он омерзителен, мир людей. Непрочный, неверный. Отвратительный. Что же делать? Отвергнуть его, оставить? Пойти домой и проглотить снотворное, как в прежние времена? Сказать прощай этому человечеству, которое позволяет какому-то Самаэлю крушить все вокруг? Это ли ответ на столь давнее уже прощание Евы?
Давнее? Это случилось словно вчера.
Я испытываю ощущение пустоты. С сумкой в руке я бреду по улицам, которые в конце концов тоже начинают казаться мне враждебными. Недалеко от входной двери я натыкаюсь на груду одеял, лежащих горкой: это человеческое существо — бездомный. Он спит, отрешившись от всего окружающего. Ничто не выведет его из этого сладкого оцепенения. Что общего у меня с ним? Если я коснусь его руки, он мне ответит? Увидит ли он во мне друга или обидчика? От кого он прячется? Я же бреду, как старый клошар — в поисках убежища, которого нет нигде.
Я подхожу к Центральному вокзалу. Пассажиры бегут в разных направлениях, как будто спасаясь от врага. Я сажусь на скамью. Подбираю старую смятую газету. Разбился самолет: с десяток жертв. Старые политические скандалы. Эротические фотографии. Статьи о конце века. Царь Соломон и в самом деле все предугадал: дни приходят и уходят, ночи приходят и уходят, но мир остается неизменным. Горе поколению, которое сумело познать абсолютное Зло, но не абсолютную Истину, сказал одни философ, говоря о диктаторских режимах XX века, чьи триумфальные победы унизили человеческий род. Вместе с тем как забыть о прогрессе наук? Об освоении космоса, открытиях в медицине, чудесах в сфере коммуникации — о надеждах, которые они рождают? Как разобраться? Зло и Добро кружатся в головокружительном ритме. В мозгу моем образы и мысли несутся вскачь, сплетаются воедино. Все неясно, неразличимо. И где там я? И где Ева? Что я сделал дурного, отчего она меня бросила? Что делаю я на этой враждебной или равнодушной земле, среди этих чужаков, которых она отвергает? Еще немного, и я начну жалеть себя. Только не это, мысленно говорю я. На что мне жаловаться? Никто мне ничего не должен. Ева в особенности. И Колетт, и наши дочери, сгинувшие на затерянных дорогах планеты. Я несчастен, и что с того? Разве другие счастливы? В этом проклятом, окаянном столетии счастье — яство редкое, рождающее чувство вины. Словно в горячечном бреду перед моим взором проносятся лица: голодный ребенок с выпученными глазами на руках у своей матери в Африке и другой, в слезах, в Азии. Отупевший от горя старик подле своих зарезанных сыновей в Руанде. Трупы в общей могиле, в Боснии. Вселенная колючей проволоки и клубов дыма под кровавым небом. Когда кто-нибудь из нашей маленькой группы осмеливался помянуть счастье как цель, долг или случайность, Диего фыркал и восклицал:
— Эй, ребята! Посмотрите-ка на него! Наконец-то нашелся человек, который верит в счастье! Ему премию надо дать! Главную премию века глупцов!
Но ведь с Евой я ощущал себя на своем месте, я был спокоен. Возможно, я не знал этого тогда, но теперь я это знаю: даже рядом с Колетт я ждал именно Еву. Даже когда я вызывал образ Эстер, загадочного тела Эстер, раскрывающего свои тайны в моих чувственных грезах, даже когда я вспоминал Илонку с ее безграничной добротой, даже когда я думал о моих родителях, чьи уже неясные лица я больше никогда не увижу, мне достаточно было поцеловать Еву в губы, чтобы обрести счастье обладания ее ртом и дыханием. Я ласкал ее бедра, плечи и был счастлив тем, что не потерял способности желать.
В разлуке с Евой я вновь вижу себя ребенком в Будапеште. Вокзал и свистки поездов. Магазины, кондитерские… Век был юн, а я мал. Снег был чист. Снег на будапештских мостах, густой и мягкий. Затем Париж, много дождей и мало снега. Очень мало чистоты.
Позже, гораздо позже я узнал от Болека новости о Еве. Хоть он и был признателен ей за то, что она сделала для Лии, вернувшейся к нормальной жизни, виделись они все реже и реже. Все тот же враг — Самаэль. Болек ненавидел его еще больше, чем прежде: даже имя не мог произнести без раздражения.
— Бедная Ева, — говорил он. — Я же знал, что Самаэль причинит ей боль. Это было неизбежно. Может быть, она сама это чувствовала, но она твердо решила спасти Лию, принести себя в жертву ради нее.
А если это был только предлог? Возможно, она просто влюбилась в Самаэля — к такому заключению я постепенно пришел. Была ли она счастлива? Жила ли с ним по-прежнему? Этого Болек не знал, но до него дошли слухи, что она уехала из Нью-Йорка. И что Самаэль пустил в ход все свои таланты совратителя с целью сбить ее с истинного пути. Глумился над ней, обманывал ее, унижал, даже к наркотикам приобщил.
Подонок.
Не знаю, отчего я открылся однажды рабби Зусья. Мы беседовали о тайне сроков и времени: способен ли человек реализовать себя в одно мгновение? В ходе всей жизни? Потом мы заговорили о том, какое место занимает Зло в поисках истины. Я заметил, что, если Зло может воплотиться в одном человеке, мне, видимо, такой встретился. Я поведал ему прекрасную вдохновенную историю о Еве, о моей любви к Еве. Никому я ее прежде не рассказывал. Чтобы не сделать пресной при передаче. Чтобы не опошлить. В любом случае никто бы меня не понял. Кроме, быть может, мистика, как рабби: он будет первым, кто признает, что некоторые истории любви постигаются только в эзотерических терминах. Быть может, он сумеет вернуть мне ее каким-нибудь словом или взглядом. Наверное, было уже поздно. Но рабби, конечно, был могущественнее Самаэля.
— Самаэль? Ты сказал — Самаэль? — вскричал старый Учитель, и в глазах его отразился необычный страх. — Я чувствую, что это опасный человек… и что опасно вступать в контакт с воплощением Зла, если не можешь сразу же обезвредить его.
Он огладил ниспадавшую на грудь бороду.
— Расскажи мне, как это случилось. Расскажи мне все. В деталях. Ничего не упусти. Если ты хочешь получить от меня помощь или поддержку, я должен знать все.
Я дал ему исчерпывающую информацию, но, чтобы не огорчать его, предпочел обойти интимную сторону наших с Евой отношений. Я просто сказал, что мы были близки. Он это одобрил:
— Ты упомянул, что она потеряла мужа и единственную дочь, так? Господь желает быть защитником вдов. Утешающий их есть вестник Божий…
Я ожидал, что он станет подробно расспрашивать меня о ее характере, личности и жизни, но он только бросил на меня пронизывающий взор, а затем продолжил:
— …а причинивший им вред есть посланник Сатаны.
Я кивком выразил согласие, хотя и не был убежден, что верю в существование силы, опознаваемой под именем Сатана: ведь Зло проникает в человека, едва тот признает его главенство. Но рабби Зусья в Сатану верил, и этого мне было достаточно. Я сказал себе, что, если Сатана существует, это наверняка кто-нибудь вроде Самаэля, это несомненно Самаэль.
— Что ты знаешь о нем? — осведомился рабби Зусья.
— Немного, рабби. Совсем немного. Почти ничего.
— Откуда он, из какого круга? Какая у него профессия? Чем занимается или занимался его отец? Ты не знаешь? Он скуп? Изъясняется медленно, обдумывая каждое слово, или быстро? Головой при этом двигает? Бормочет? Руки, что делают его руки, когда он говорит?
Как на это ответить? Воспоминания мои были слишком смутными.
— Все, что я знаю, рабби, это то, что есть в нем нечто обольстительное, но также и нечто отталкивающее. Я такими словами не бросаюсь: ты слушаешь его, силишься быть внимательным и одновременно желаешь избавиться от его облика, от его присутствия из опасения, что в общении с ним станешь нечистым и греховным.