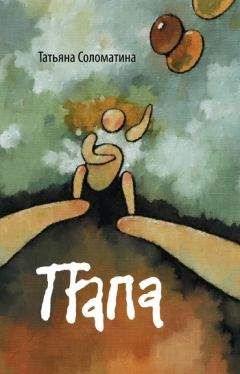Наоми Френкель - Дикий цветок
«Но тогда пришел верблюд и сжевал все ростки до одного».
Фраза эта возвращается, не отстает. В кроне фикуса испуганно чирикает птичка. Рами напрягает зрение и при слабом свете фонаря видит кота, бесшумно карабкающегося по стволу. Летучие мыши простирают черные крылья над зеленой листвой. Птичка улетает, вероятно, оставив в гнезде птенца, и она беспокойно кружится неподалеку. Кот подбирается к птенцу! Рами свистит псу, чтобы тот проснулся и напал на кота. Пес встает, кружится, но не лает, ничего не видит, опять ложится на старое место. Злое животное продолжает подбираться к гнезду, и Рами не выбегает, чтоб его отогнать. Беспомощен он в эту ночь, даже пес ему не подчиняется. Ангел смерти, действующий без всякого сопротивления со стороны, обернулся черными обликами летучих мышей. Хищник добрался до жертвы, вся крона шумит, слабый птичий лепет несется из листвы. Рами шепчет: «Маленькая падет жертвой!» И не слышно голоса, кроме его шепота. Замолкло чириканье в кроне. Хищник, удовлетворенный, беззвучно соскальзывает и исчезает. И кто будет его преследовать? Кибуц спит, и Рами единственный, кто бодрствует в квартире Соломона. Крона фикуса перестала шелестеть, лишь голос в душе Рами:
«Малютка погибла!»
Час между тьмой и светом, час рождения нового дня. Сияние неба погасло, и глаза Рами прикованы к небесной пустоши, и не отличают разницу между домом и пустыней. Из этого серого пространства возникает гул мотора джипа. Рами закрывает глаза и прислушивается.
Этот звук беспокоит его издалека. Капитан Рами слышит звук двигателя автомобиля майора Мойшеле, и напрягается в ожидании встречи. Рами командует военным поселением одновременно несущим службу и занимающимся сельскохозяйственными работами. Негев – не Синай, но и его нельзя сбросить со счета. Холм, на котором расположено поселение, это не укрепление на берегу Суэцкого канала, но и он – зеленый островок в стране бесконечных, носимых ветром песков, ковчег Рами, плывущий в море лёссовых грунтов. Рами вошел в этот ковчег, чтобы избавиться от обвинений и наказания со стороны Адас и Мойшеле. Сидел он там, окруженный песками, осажденный горами, в тюремной камере души с решетками одиночества, под усиленной стражей камней, скал и утесов. Дневное развлечение – следить за тем, как земля завивается смерчем силой восточного ветра. Дневной маневр – поднять глаза к небу, держаться прямо и не опускать голову. Небо ослепляет резким светом, сияет днем и ночью. Пустыня не отличает свет от тьмы. Она не освободила Рами от Мойшеле, который всегда рядом.
Знакомая улыбка на губах, моргание. Знакомое бормотание – «привет», «что слышно», и «нет проблем», и «все в порядке». И Мойшеле сжимает зубами трубку, выпускает клубы дыма, играет в бывалого офицера-вояку, стального мужчину. Глядел Рами на трубку и удивлялся, каким образом тот выпускает дым, уголком рта или ноздрями. Мойшеле играл свою роль на высоком уровне, и с одинаковой серьезностью вел себя в поселении Рами или у себя в укреплении на Суэцком канале. Хотелось Рами сказать ему: «Ну-ка, улыбнись!», но, конечно же, не произносил ни слова, а лишь покачивался в кресле, удивительном, качающемся кресле, как у всех воинских командиров. Ожидал Рами, что Мойшеле все же что-то скажет, но так и не дождался. Взгляд майора Мойшеле скользил по стенам, которые украшал написанными на листках сентенциями старшина Цион Хазизи. Над головой Рами висела надпись: «Знай, перед кем стоишь!» И с высоты этой надписи глаза Мойшеле спустились к Рами, который, в общем-то, сидел в командирском кресле, но не выглядел, как командир. Шевелюра на его голове была в растрепана, как и борода, и военная форма выглядела на нем неряшливо. Этот командир пока не создавал армию. Глаза Мойшеле смотрели на Рами и листки Циона Хазизи. Рами надоело хмурящееся лицо майора Мойшеле и хотелось ему сказать: «Послушай, мы что, не были раньше друзьями?» Но, конечно же, не сказал ничего такого, только положил ногу на стол, около чашки и блюдца – показать Мойшеле свои явно не образцовые сандалии. Они были и вправду истрепанными, но очень удобными, ибо ветер и песок свободно забирались в них, и так же свободно вытряхивались. Чашку тоже украшала надпись «Самая лучшая теща». В «теще» чернел кофе, а блюдце лежал бутерброд с желтым сыром. Все это было приготовлено сержантом для Рами. Это способ сержанта Хазизи быть любезным своим командирам, но у Рами в пустыне отсутствует аппетит, который пробуждается лишь дома. Глаза Мойшеле смотрели на бутерброд, и Рами пододвинул ему его вместе с кофе:
«Бери».
«А ты не хочешь?»
«Зубы».
«Болят?»
«Онемели».
И Рами улыбнулся Мойшеле, обнажая весьма здоровый ряд зубов, надеясь, что тот поймет намек и перестанет действовать ему на нервы замкнутым выражением лица. Мойшеле приблизился к столу. Но Мойшеле не Рами, и если есть, так ест, берет бутерброд в обе руки, и жует до хруста в скулах. Мойшеле соединил пальцы щепоткой, отламывал от хлеба маленькие кусочки и отправлял их в рот. Лишь мизинец был оттопырен и слегка дрожал. Руки Мойшеле проявляли чувствительность даже к бутерброду Циона Хазизи. Рами не отводил глаз от рук Мойшеле. Как это солнце Синая не коснулось их белой кожи, и пальцы не были задымлены? Откуда у него такие длинные и узкие руки? Как это пыль Синая не вошла к нему под ногти, как песок Негева под ногти Рами? Мойшеле показывал Рами свои белые руки с голубыми прожилками. Голубая кровь течет в них. Кто наследовал ему руки принца – раздавать милостыню острыми пальцами? Рами ничего не спрашивал. Мойшеле ел и пил, пока не опустело блюдце и чашка, и не осталось ни крошки, ни капли. Затем постучал трубкой по пепельнице, выбив из нее весь пепел, и положил ее на блюдце, больше не курил, говорил, обращаясь к чашке:
«Кончили войну».
«За это надо молиться Богу каждый день».
«Что делать?»
«Возвращаться домой».
«Нет!»
Слово, как удар ногой, который заставил Рами вскочить из кресла и отпрыгнуть к окну. Поведение Мойшеле изводило его, и он поднял лицо к солнцу. Может, все же открыто поговорить с Мойшеле? Попробуй, поговори, когда у него свой особый способ беседы. Всего-то хочется сказать, что все это надоело, но Мойшеле начинает длинную нудную лекцию о твоем «надоело», так, что тебя начинает воротить от собственного твоего «надоело». Рами избегал беседы с Мойшеле, ибо сама ситуация была бестолковой. Когда же Мойшеле произнес – «Нет!», ситуация еще более обострилась, и Рами, вовсе сбитый с толку, приклеился к окну, за которым простиралась пустыня. Внезапно увидел беркута, который каждое утро взлетает с высокого утеса на горизонте и в медленном полете показывает свои величественные крылья Рами. Теперь он оставил свою крепость, в полдень, и спикировал в долину. Это знак, что там что-то случилось. Рами быстро подтянул пояс, взял автомат и побежал к двери. Мойшеле преградил ему дорогу:
«Куда?»
«По-моему, какая-то падаль».
«Откуда ты знаешь?»
«Беркут спикировал в долину».
«Несомненно, скотина».
«А, может быть, труп?»
«Я иду с тобой».
Миг единомыслия и прежнего теплого чувства. Выйдут в пустыню, как в прошлом, друзья среди немых песков, единственные в пустыне, решившие, что никакая женщина никогда не сможет их разъединить, даже маленькая красавица. Ведь они дали обет дружбы в ночь среди горящих пальм. Но те дни ушли в прошлое, и нет уже ничего подобного тому, что было, и обеты их потеряли силу. Рами торопился к падали, чтобы оторваться от Мойшеле. Нет у них ничего, что можно было бы сказать друг другу.
«Ну, я пошел».
«Мы пошли».
«Нет!»
Мойшеле мгновенно понял. Нет необходимости во многих словах, чтобы они поняли друг друга. Со свойственным ему спокойствием Мойшеле запалил трубку. Рами сделал некий жест прощания, стукнул дверью, оставив Мойшеле и зная, что тот сам уйдет. Этого именно он и желал.
Безумие пустыни! В полдень здесь абсолютное пекло. Жар на высотах и в пустотах раскинувшегося пространства закручивал воздух кругами. Ветер гнал песок волнами, и он тек, подобно водам в ручье. Колючие песчинки сыпались в глаза и уши Рами. В полдень все живое прячется в норы, но Рами торопился к падали, и ветер иссушал последние капли в его теле.
Дорога в долину близка к поселению. Склон крут, и ноги Рами соскальзывали по нему. Он вошел в лабиринт обнажений и утесов, прошел между гигантскими стенами гор, которые вытесывались в течение тысячелетий. Каждое столетие отпечатывало свой след пластом иного цвета. Гиганты скал стояли на краю горной стены, готовые, подобно канатоходцам, в любой миг броситься с высоты. То тут, то там, горбясь, висели утесы над головой Рами, и он замедлял шаги, чтобы не слишком сотрясать землю. Камни и земля жгли ему подошвы ног в сандалиях. Вся пустыня восставала против него! Горы одушевленными своими формами смотрели на него как живые существа, и среди них возвышался над всей пустыней один необычный утес, и темные скалы светились в воздухе, как хрусталь. Крепость беркута! Острый луч подстерегал на вершине, которую захватила эта царственная птица. Нога человека там не ступала, даже нога капитана Рами. Со скалистого плоскогорья, по которому он шел, открылся вид на долину, и там – падаль верблюда, над которым делал круги беркут. Вороны летали выше, оглашая долину хриплыми криками, но из страха перед беркутом не спускались к падали. Царь пернатых захватил ее только для себя. В этой красивой птице все зло мира. Вонь от падали дошла до ноздрей Рами, и все в нем перевернулось. Чтобы не видеть хищника, Рами поднял голову и увидел маленькую косулю, стоящую перед ним на рассыпающейся скале, над круто обрывающимся склоном, и прозрачный воздух приближал ее к Рами до того, что он почти чувствовал ее шкуру под своими пальцами. Карие глаза красивой косули парили над безобразием, творящимся в бездне, над падалью верблюда, расклеванного беркутом. Швырнул Рами камень в беркута, и вороны бросились врассыпную, но беркут не оторвался от трапезы. И косуля не испугалась и не убежала. Швырнул Рами второй камень и попал им в падаль. Обернулся беркут к Рами разинутым клювом, и тут же, расправив крылья, взмыл в свое царственное логово, держа в клюве кусок вонючей верблюжьей плоти. Когда беркут очутился над косулей, взвел Рами автомат и выстрелил. Но попал не в беркута, не очистил небо от хищника, питающегося падалью, а попал в косулю, и она беззвучно свалилась со скалы, ударяясь о выступы, и упала рядом с верблюдом, но не удостоилась того, чтобы царственный беркут полакомился ее мясом, ибо заполнил желудок грубой падалью. Только вороны кружились над косулей, раскрывая клювы. Все вороны пустыни слетелись на пир хищников. Руки Рами опустились, и автомат ударил его в бедро. От омерзения он весь задрожал, ощутив спазмы в желудке, и тошнота подступила к горлу. Только в этот момент он осознал всю тяжесть одиночества в этом диком безмолвии, и страх вошел в его сердце. Он убил маленькую косулю!