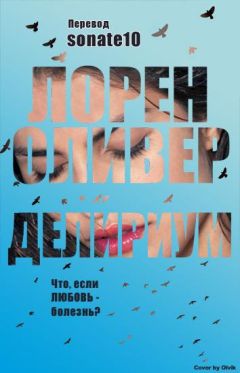Давид Гроссман - Будь мне ножом
Мне нужно выйти купить кое-что. Я уже неделю живу на одной простокваше и пиве, а простокваша утром закончилась. Через пятнадцать минут закроют ночной гастроном на проспекте Бен-Иегуды, ещё одну ночь без твёрдой пищи я просто не выдержу.
Знаешь, что меня больше всего угнетает? Ты рассказала мне о таком горе, а я не могу быть с тобой так, как тебе это необходимо, узнать, какая ты наедине с собой. Я так и не понял тайны, сокрытой в тебе. Не уступай мне, скажи: «Яир, Яир, приди сейчас и почувствуй моё тело, всё полностью, заставь меня преодолеть смущение перед словами, хихикающими, как девчонки». Скажи мне: «Распрямись, почувствуй, как я заполняю тебя, простираясь до самых краёв, до тех мест, которых не существует в твоём теле, которые только могут в нём быть». Прошепчи: «Почувствуй мою грудь, округлую и мягкую, почувствуй центр тяжести, оттягивающий её вниз и вбок, это место, которое на картинах всегда выделяют». Попроси меня опустить плечи, улыбнись: «Расслабься, не смотри, что у меня плечи всегда напряжены. Десять лет „Александер-метода“, а они всё ещё напряжены». Не останавливайся, повторяй снова и снова: «Расслабь плечи, расслабься, почувствуй, как разглаживается, размягчается твоё лицо. Стань нежнее, не бойся этого слова, возможно, ты был бы более счастлив, если бы отважился стать нежнее, позволил бы собственной нежности заполнить тебя. Она — твоя, она — живой источник в тебе, не заваливай его камнями», — скажи мне: «Приди, излейся в меня, пусть слова, которые ты пишешь, вольются в моё тело, в ноги и между ними, хоть раз испытай чувство, что это — твоё, что ты не только желаешь этого… Но ты ужасно скован, Яир, возможно, оттого что я сама сейчас скована, как в ожидании боли — ведь сейчас мой живот — я прошу, чтобы ты ощутил мой живот, белый мягкий и пустой…»
«Не останавливайся! Там, где мы сейчас находимся, тебе нельзя меня щадить. Такой между нами уговор, Яир — этой ночью мы вместе пишем всё, всю правду (как ты любишь говорить — „чистейшую правду“). Пиши всё, что приходит в голову тебе и мне, ощути мой живот изнутри, поищи во мне мою „слепую точку“, которой ты однажды, сам того не заметив, дал имя — „там моё тело встречается с моей душой, шёпотом произнося внутренний пароль“. Узнай, как каждый месяц в неё стекаются надежды, и какие уколы горя и отчаяния из неё исходят, угнетая душу и тело».
«Вспомни, какой ты меня увидел в тот первый вечер и пойми, наконец, из-за чего я была так несчастна и подавлена в ту минуту, когда ты впервые на меня посмотрел, и какой свой собственный печальный „праздник“ я в тот день отмечала».
«…И какая это бездна…»
«Не выходи из комнаты, останься с нами. Мои слова исходят из твоих уст — это так странно. Твоё желание волнует меня и неописуемо смущает. Но ты помнишь, что это та единственная история, которую я хотела тебе рассказать, — история полного проникновения в другого человека; не для того, чтобы затеряться в нём, и не для того, чтобы отказаться от себя, напротив, обрести в себе другого…»
«Яир, всей душой и телом я чувствую сейчас, что ты этого желаешь, но боишься. Мы оба живём в тебе — ты и я, как всегда. Ты прикасаешься к моей боли, и я чувствую, что она тебе дорога, что ты не хочешь оставлять меня с ней наедине — а в следующую минуту ты уносишься так далеко, как только можешь… Только не выходи, если ты сейчас выйдешь, то уже не вернёшься. Сбежишь на край света и не захочешь вспоминать о том, что начинается сейчас между нами, когда душа медленно и мучительно раскрывается навстречу другому человеку. Не прекращай писать, сожми ручку изо всех оставшихся сил, ты дрожишь от напряжения, но пишешь, пускаешь во мне корни — только не бойся! И пусть не пугает тебя мысль, которая однажды — миллион лет или два дня назад — посетила тебя, когда ты хотел проснуться после аварии или операции с полной потерей памяти и начать вспоминать шаг за шагом нашу с тобой историю, рассказывать её себе с самого начала, не зная, кто ты сам в этой истории — мужчина или женщина.»
«Хорошо было бы, если бы ты мог вспомнить, каково это — быть женщиной, и каково — быть не мужчиной и не женщиной, а самим собой без всяких определений и названий, ещё до слов и половых различий. Может быть, так ты сможешь, как бы случайно, достичь моей давнишней возможности стать собой».
«А если сумеешь её достичь, то сможешь точно понять меня сегодняшнюю — ту, что стоит перед тобой, ссутулившись и сжавшись. Ты так восхищался заключённым во мне материнством, с первой минуты ты просто питался им, как молоком, и чем больше ты высасывал — тем больше его становилось, а чем больше его становилось, возрастала моя в нём потребность. Никогда я не умела, не пыталась, не осмеливалась рассказать себе самой эту историю в такой полноте.
Ты догадываешься, как я себя чувствую сейчас, когда ты узнал правду, узнал факты и реальность. Но ничего не поделаешь, Яир, я, вероятно не самый прагматичный человек, когда дело касается моей материнской сущности (или „не-сущности“…)»
Дарвин не приветствует меня из могилы.
Ты прав — очень непросто превращать ничто в нечто…
Но в тебе так сильно материнское начало! Оно не из тех качеств, которые меняются с годами. Это — твоя сущность, Мирьям, я всегда буду ощущать её, думая о тебе (до меня вдруг дошло — «…у Амоса есть сын от первого брака». Я не видел связи…). Я не перестаю думать о сцене в родильном зале, когда она почувствовала, как что-то в ней сломалось, и вы сразу пообещали ей — вы оба дали ей такое обещание!
…И ты всю дорогу считаешь с ним до миллиона…
«А знаешь, возможно, когда-то и вправду был такой миг во времени и пространстве, в который ты мог бы стать мной — другой мной… Как ты думаешь? Ведь можно верить, что это возможно. Можно попросить такое у твоего „кремля“? Нет, не зажигай света, он здесь слишком тусклый!.. Пиши в темноте. Твой почерк в последние минуты сильно дрожит. Почерк-плакса. Помнишь, как я обижалась, что ты ни разу не спросил, в чём мой „атлант“? Не раз и не два просила я, чтобы ты его угадал, а ты не обращал внимания (как же ты умеешь игнорировать некоторые вопросы!). Кончилось тем, что я даже себя перестала об этом спрашивать. И вопрос пропал…
Но сейчас запиши ради меня:
Я всё чаще думаю, что мой „атлант“ — тоска.
А ты? Какой у тебя „атлант“?»
Ты действительно хочешь узнать? Лучше не надо…
Ты молчишь. Тебе больше не хочется, чтобы я за тебя писал. Волшебство закончилось. Я знаю, о чём ты думаешь. У тебя это на лице написано: «…Почему же человек, испытывающий такой любовный голод, такую потребность в нектаре любви, буквально взывает каждым своим словом, — и при этом пичкает себя какими-то суррогатами…» Знаю, знаю! Читал! Без этого в последнем твоём письме вполне можно было обойтись. Давай оставим эту тему. Не хочется всё портить. Не пытайся изменить меня во всём, и особенно — не отнимай у меня этого, ибо при всех твоих сомнениях — это несомненно «атлант».
«…Не уходи, не бросай ручку, Яир, поиграй ещё немного в эту надуманную игру, не обращая внимания на спинные мышцы души, прогнувшиеся до нестерпимой боли. Я знаю, я тоже, благодаря тебе, испытала чувства, которые невозможно вынести. Но сейчас, когда ты один в комнате, когда ты более одинок, чем когда-либо, напиши самому себе — зачем ты причинил себе это зло, и как ты можешь допускать чужих к самому своему больному месту?»
Хватит. Мне надоело сидеть здесь, как в могиле, и онанировать словами. Ведь так можно невесть что наговорить! Эта инфантильная игра затянулась. Два часа ночи — я пишу уже более пяти часов без перерыва. Всё расплывается перед глазами, мне хочется чего-то настоящего, живого, тёплого — такого, что можно взять в руки, а вместо этого я снова избиваю себя с твоей помощью. Мы опять начали меня избивать! Этого я тебе не отправлю. В какой-то момент мы с тобой начинаем говорить на разных языках. Что ты можешь понимать в этом чуде — когда совершенно чужой человек становится вдруг живым средоточием всех твоих чувств, мыслей и фантазий, что ты понимаешь в воспламенении, выбивающем искры между чужими — именно совершенно чужими — людьми, знакомыми со всеми параграфами закона и знающими, что после бури они снова останутся одни? Одна, хочешь кое-что услышать? Хочешь узнать, как это бывает на самом деле у всех, всех, прикрытое красивыми словами и завуалированными взглядами?
Так вот.
…Когда ты тоже кончила, мы успокоено лежали, синхронно дыша, с довольным сытым урчанием, а пару минут спустя я зевнул, что у меня обычно означает: «Ну, всё, возвращаемся к жизни», — и ты, сильно обхватив меня обеими руками, сказала — не выходи!
Я улыбнулся в твою шею — меня насмешило странное волнение, прозвучавшее в твоём голосе, и я задержался ещё на минутку-другую, может быть, даже вздремнул, но, когда захотел выйти — сколько же можно так лежать, нужно, наконец, выпрямиться, вроде как выровнять линию фронта после большой битвы. А чей-то мужской хриплый голос во мне уже ворчал, чем я тут занимаюсь с этим чужим телом. И назло ему, а также из-за своей обычной лживости в такие минуты, я, сыто заурчав по-кошачьи, сказал, что готов оставаться с тобой целую вечность, и ты быстро ответила — так останься! А я спросил с улыбкой — навсегда? И ты сказала: «Да, навсегда, на сегодня, не выходи!» Я засмеялся в твоё горячее голое плечо и сказал, что проще было бы отрезать его — и ты сможешь пользоваться им по своему усмотрению, потому что у меня на сегодня назначены ещё и другие дела. А ты со странной поспешностью ответила: «Нет, пожалуйста, останься ещё немного, сколько сможешь, сколько мы оба сможем, ты же сегодня никуда не торопишься».