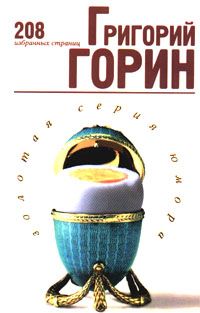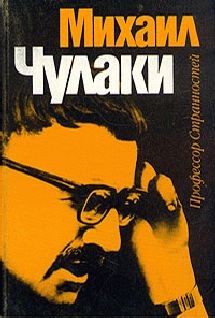Михаил Чулаки - У Пяти углов
Тогда, разойдясь с Лизой, Филипп разочаровался во всяких там влюбленностях, которыми сплошь наполнены стихи и романы: нудное мгновенье… шепот, легкое дыханье… Было все у них с Лизой: и шепот, и трепет, и легкое дыханье, ну и что толку, если в результате он не смог быть с нею самим собой, если ока не только не помогала ему выразить себя, написать свою музыку, но и прямо мешала, коль уж разбираться объективно, — мешала неверием, мешала хотя и не явными насмешками, но намеками, что он угождает чьим-то вкусам, продается… Нет, женщина прежде всего должна быть единомышленницей! Вот как Ксана — в ней он нашел и понимание, и поддержку. По крайней мере, так показалось вначале. И еще: она чудесно смеялась — ни у кого Филипп не слышал такого смеха. Она и до сих пор смеется так же чудесно — только гораздо реже. А с единомыслием и пониманием все оказалось куда сложнее… С детства образцом идеальной жены для Филиппа была мать: вот уж кто посвятил всю жизнь своему мужу! Кажется, у нее и не было своих интересов, отдельных от интересов ее Николая Акимыча. Ну понятно, когда таким кумиром становится знаменитый ученый или артист, но за что так повезло водителю троллейбуса, пусть и не совсем рядовому водителю, а немного необычному?! Вот Филипп в какой-то момент и поверил, что Ксана сможет так же: раствориться, стать частью его личности, тем более что свое она оттанцевала, собственных интересов, собственной отдельной жизни, казалось бы, не осталось, — но нет, растворения все же не произошло…
Филипп сжал бока горшка с мясом и двинулся в комнату.
— А вот и он! — закричала Лида Пузанова. — Мы уж думали, ты заперся в ванной и ешь в одиночестве! Я так и представила: рукава засучил и руками в горшок!
— Всем хватит, — совершенно серьезно успокоил Николай Акимыч. — Хорошее мясо, я сам принес из кулинарии. У нас около парка хорошая кулинария.
Отец редко что-нибудь делает по хозяйству, но уж если сделает — тотчас раструбит.
— А водки дадут к мясу, чтобы легче прошло? — выскочил Ваня Корелли.
Лида тотчас дернула мужа за руку, но он уже высказался и теперь сидел с самым невинным видом.
— Я-то знала, чего тебе надо, — поощрительно сказала Ксана. — Да ведь у меня же муж трезвенник, ничего не пьет, кроме вина. Вот и не дал купить. Очень прекрасно быть трезвенником, я не возражаю, но иногда надо дернуть, верно же? Чтобы продрало внутри. Умные люди говорят, что чистый спирт — лучшее лекарство. Мне, правда, ничего не помогает. Так, может, сбегать, а? У нас напротив.
И не пьяница же вовсе Ксана, а вот обожает повторять пошлости: лучшее лекарство, оказывается. Филипп давно старается не спорить с Ксаной без крайней необходимости, потому что ничего хорошего не выходит из споров, но тут кстати вступилась Лида:
— Только, пожалуйста, Кинуля, нечего ему потакать! Ты же знаешь: у него это кончается «скорой».
А если Ксана знала, чего ж она готова была бежать для Вани в магазин напротив? Правда, Ксана редко думает о последствиях.
— А у нас в парке одного водителя понизили в ремонтники на три месяца за это дело. Ремонтником плохо, когда привык на линии. Странный такой парень, стихи пишет. У меня тут…
Николай Акимыч попытался вновь захватить разговор, не может он высидеть молча, но Филипп был начеку:
— Обожди, папа, тут Лидуся хотела рассказать, как она была в Сплите. Не каждый день человек привозит премию.
— Не премию, а диплом, потому что там не конкурс, а называется просто фестиваль. — Лида охотно положила вилку, забыла, что собиралась вместить все, что подадут. — Вообще-то, фестиваль как фестиваль.
— Будто ты только и катаешься по фестивалям! — вставил Ваня.
— Не катаюсь, конечно, но знаю. А что поразило по-настоящему — море! До сих пор перед глазами. Прозрачное — метров на сто в глубину видно! Ну не на сто, но глубоко. Плывешь — как летишь, такая прозрачность. Жалко только, в нем шарики мазута от пароходов. Понимаете, мазут не растворяется. Их выбрасывает на пляж, ну и обязательно наступишь. Я наступила в первый же день, размазала по пятке — ужас! И не отмыть. У меня ё собой полотенце из отеля, но не могу же я оттирать мазут полотенцем: скажут, приехала русская баба и сразу измазала полотенце — позор! А потом присмотрелась на другой день: все мажутся и все оттирают отельными полотенцами. Их же меняют каждый день и вообще все белье. Представляете? Всякие там немцы, французы, да кто угодно мажут в мазуте полотенца и не думают, что о них подумают! А мы щепетильничаем, будто провинциалы, которые приехали в столицу и боятся на каждом шагу: как бы над нами не посмеялись. Обидно мне стало, честное слово. Вот когда приехала, первое, что сказала моему Корелли: не про фестиваль, а что надо быть раскованнее! Не думать, что о тебе подумают.
— А выпить не даешь, — сказал Ваня.
— Вот-вот, тебе, чтобы расслабиться, надо выпить, а в том-то и дело, чтобы быть раскованным естественно, без всякого пьянства.
— Там они все время пьют, почитай их романы, — сказал Степа Гололобов. Он редко говорил, но как-то основательно.
— Как они пьют — наперстками, — пренебрежительно отмахнулась Лида. — А сам фестиваль и этот мой диплом — да ничего особенного.
— В рамку повесила на стене, — сообщил Ваня.
— Ну и что? И ты бы повесил. Потому что он дался мне — знаете как? Понимаете, я вошла в заблуждение, когда готовила к нему партии.
— Ты сама вошла в заблуждение, или тебя ввели? — уточнил Степа.
— Ввели, но так ввели, будто вошла я сама. Сначала же должна была ехать наша Элла Тараскина, ей прислали фестивальные проспекты, а потом ее не послали, а вместо нее срочно я. А проспекты она потеряла, пересказала мне наизусть.
— Скороговоркой по телефону, — добавил Ваня. — И знаем мы, как это теряются проспекты в таких случаях.
— Нет, Элка не такая! — сказала Ксана. — То есть все бывают такими, но не Элка. Да что я говорю: все? Не все! Вот моя Ольга Леонардовна, моя и наша, она никогда ни на малейшую йоту от совести. Вот кто идеал и сверхидеал! Ее у нас не оценили и недооценили. Зря она отказалась, когда звали в Москву: была бы звезда и сверхзвезда! Да чего я говорю, те, кто по-настоящему понимают, и сейчас говорят, что она выше всех. Но недооцененная. И все равно уехала в Москву, только уже не танцевать, а вести класс в ГИТИСе. А у нас для нее и класса не нашлось… Есть такие, которые всегда по совести, а вот Элка — не знаю.
— Брось ты, Кинуля, все такие, когда вместо тебя едет другой. Или другая. А тем более, если и бабские счеты. Ну, словом, хорошо, что я когда-то пела Азучену: возобновила за три дня. То есть возобновила — не то слово: я же когда-то пела по-русски, а там надо по-итальянски. Это был какой-то кошмар!
— За три дня невозможно на чужом языке, — педантичного Степу Гололобова не провести.
Ну за неделю, не придирайся, пожалуйста! Все равно кошмар.
— У нас в парке тоже был случай, — Николай Акимыч нашел наконец зацепку, чтобы вклиниться в разговор. И так он молчал слишком долго. — Случай вроде того, как тебе подстроила твоя Элла. Выпустили меня на резервной, потому что моя будто неисправная. Подстроили, я думаю, моя-то всегда как часы, я за ней сам смотрю, не как нынешние молодые: приехал, бросил, пусть копаются ремонтники. Выпустили на чужой, чтобы я на линии сломался. Рассчитали на три хода вперед, потому что сход с линии — это ЧП, за это можно и премии лишить, а тем более мне каждый праздник грамоты. Зависть — она везде зависть, хоть в театре, хоть в нашем парке. Выпустили на резервной, а в ней контроллер — такой, что сейчас работает, а через час сгорит. Скрытый дефект — он самый подлый: проверяешь — вроде все нормально. Другой бы и выехал, и вернулся бы верхом на техничке. Только не я. Я как сел, сразу чувствую: не то! Не объяснить, но чувствую. Вроде все так — да не так. Потому что я всю механику насквозь чувствую — как терапевт!
От неожиданности все рассмеялись.
— Почему как терапевт, Николай Акимыч? — спросила Лида.
— А как же: хирург — он разрежет и посмотрит, а терапевт видит насквозь, не разрезая.
Рыжа снова подошла и положила голову Ксане на колени. Ксана схватила собаку и поцеловала в черный нос.
— Рыжуня, ах ты невозможная животина! Скажи, сами жрут, а мне не дают. Забыли! Да, вот и верь после этого людям. Нет, скажи, обо мне помнят, дадут, когда остынет.
— Обо мне бы так заботились, — наигранно капризно вздохнул Ваня Корелли.
— Будто не заботятся?! Да если хочешь знать, современная забота не в том, чтобы накормить, а в том, чтобы оставить голодным! Чтобы не обжираться! Вот Кинуля мне наложила три кусища — думаешь, это забота? Это она завидует! Балетные, они нам, оперным, всегда завидуют, что мы в теле. Вот и хочет совсем уж перекормить!
— В логике это называется приведением к абсурду, — объяснил Степа Гололобов.
— Вот именно, чтобы у меня стало абсурдное пузо. А я тоже хороша: поддаюсь. Не-ет, не зря зовусь Пуза-новой!