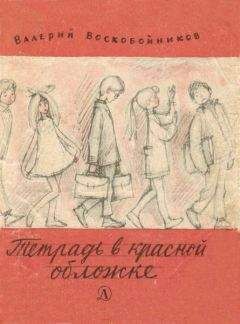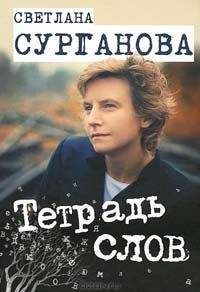Запретная тетрадь - Сеспедес Альба де
Ближе к вечеру я предложила ему: «Сходим куда-нибудь?» Выйдя на улицу, мы не знали, куда бы направиться: Микеле не хотел ни в кафе, ни в кинематограф, мы прогуливались, и он все время выбирал второстепенные улицы, потому что не любит воскресные толпы. Общение с ним требует большого терпения, и мне не жаль усилий, ведь я догадываюсь обо всем, что проносится в голове у мужчины, которому почти пятьдесят и который так и не смог оставить за спиной трудную и темную жизнь. Я часто думаю, что, хотя провожу гораздо больше времени в трудах, мне повезло больше, потому что женщина, что бы ни делала, никогда не может отстраниться от жизни детей. К тому же у небогатой женщины все время мало времени на раздумья. С возрастом я понимаю, что, вообще-то, моя мать всегда была права, когда рассказывала о жизни женщины и говорила все то, что меня раздражало. Она утверждала, что у женщины никогда не должно быть свободного времени, она никогда не должна сидеть без дела, а то сразу же начинает думать о любви.
Вот и я так же: в присутствии Гвидо я всегда сильна, но когда остаюсь одна, особенно с Микеле и детьми, мысль о нем становится наваждением, и я не пытаюсь защититься от нее. Наши самые близкие свидания происходят, когда я открываю эту тетрадь по ночам. Когда мы рядом, я испытываю сожаление оттого, что не могу принять его в своей жизни так, как принимаю в своих мыслях. Может, еще и потому, что он кажется мне совершенно новым человеком, за которым я не могу признать тех прав, которые как будто полагаются ему ввиду нашей долгой привычки к совместной работе. Помню, как в первый день он сказал мне, что уже не знает, как жить за пределами конторы. С тех пор я чувствую, что он ждет от меня какой-то уверенности, которую не способны дать даже деньги. Мне кажется, что-то между нами изменилось: может, мне не стоило соглашаться никуда с ним ходить, тайком, расставаясь на углу, подскакивая всякий раз, когда в кафе, где мы уже взяли в привычку встречаться, входит незнакомый человек. Мне кажется, что все это не так прекрасно, как то, что связывало нас, когда общим был только язык нашей работы, кабинет, в котором мы столько лет проработали вместе и который служит нам убежищем каждую субботу. И все же мне кажется, что именно возможность быть не такими, какие мы на работе, влечет нас; мы хотим встречаться в жизни, которая отличается от той, что мы оба ведем.
Откровенно говоря, мне следует упомянуть здесь об одном желании, которое было у меня давно, еще до встречи с Гвидо. Мне очень страшно писать, я подскакиваю от любого поскрипывания; в последнее время Микеле не очень крепко спит по ночам. Так вот, иногда, перед тем как уснуть, я забавлялась, представляя себе, что я одна из тех молодых, красивых, элегантных женщин, которые все время путешествуют, ездят из одного отеля в другой, отдыхают на климатических курортах, и о которых говорят: «Они авантюристки». Я воображала, что я тоже – пусть всего на один день, одну ночь; и могла бы встретиться с мужчиной, не знающим, ни откуда я, ни как меня зовут – ничего. Мало-помалу, увлеченная этой игрой, я чувствовала в себе множество желаний, которые иначе не осмелилась бы осознать. Мне нравилось представлять, что у меня много денег, много одежды, шубы, украшения, что я путешествую в далекие страны, которых и вообразить не умела; но главное – что меня любит другой мужчина, не Микеле, и он любит меня не так, как любил Микеле, не той любовью, которая мне знакома. Я думала, что на следующее утро смогу уехать вновь, вернуться сюда, домой, где никто еще не заметил моего побега: возвращаться приносило большое облегчение.
Теперь я иногда представляю все то же самое, только с Гвидо; вижу себя очень изысканно одетой, веселой, остроумной – как умеет Клара и как я отродясь не умела. Может, ему бы тоже хотелось, чтобы я была такой. Но потребовалось бы, чтобы он многого не знал обо мне; не знал, что на жизнь мне нужно шестьдесят тысяч лир в месяц, которые я теперь получаю, краснея, из рук бухгалтера. В прошлую пятницу, на Монте-Марио, я нервничала, потому что в сумочке у меня лежал конверт с зарплатой, и когда Гвидо хотел меня поцеловать, мне казалось, что из-за этих денег я не могу отказаться. К тому же я стыжусь своей скромной одежды. Несколько дней назад он видел, как я утром выходила из трамвая перед зданием конторы; он выбрался из машины и проворно вошел в парадную, сделав вид, что не заметил меня. Мне кажется, что меня подталкивает к нему не только его любовь, но и именно эта сила богатого человека, того, который сумел добиться лучшей жизни, чем моя. Когда я все это думаю, мне правда кажется, что я изменяю Микеле, хотя та убежденность, с которой я все время отвечаю «нет, нет», когда мы говорим о Венеции, успокаивает меня. Всякий раз, как Гвидо заходит в контору утром, свежий, благоухающий лавандой, в шелковой рубашке и новом костюме со свежеотутюженными лацканами, мне приходят на ум костюмы Микеле. Не знаю, как это объяснить, но мне кажется, что с помощью меня Гвидо крадет у него возможность тоже одеваться элегантно, а заодно и успех, который мой муж снискал бы, носи он те костюмы, которыми не может обладать. Тем не менее на работе я вижу в Гвидо мужчину, который работает наравне со мной, наравне с Микеле, у которого все получается лучше нас, и поэтому он зарабатывает больше. Снаружи же это просто богатый мужчина. Недавно вечером, в машине, я заметила, что его взгляд останавливается на моем заштопанном чулке. Мне казалось, что в чулке этом он увидит все мои слабости. Мы говорили о Риккардо, я это прекрасно помню: Гвидо сказал, что если мой сын не сможет поехать в Аргентину, он лично позаботится о том, чтобы найти ему хорошую работу. «Не стоит беспокоиться», – говорил он, притягивая меня к себе. Я всегда думала, что, будь я замужем за Гвидо, я все равно хотела бы работать с ним, как сейчас, помогать ему, быть его самой верной сотрудницей: но в последнее время когда я очень устаю, то спрашиваю себя, нашла бы я на самом деле силы на это или осталась бы дома, как его жена, занимаясь покупкой норковых шуб. Не знаю, ничего уже не понимаю, не могу рассудить. Я устала, два часа уже пишу. И все же я чувствую: возможно, именно эта победа, одержанная Гвидо там, где Микеле потерпел поражение, заставляет меня сильнее чувствовать желание уехать прочь из этого дома, отправиться с ним в Венецию, беззаботной и счастливой.
5 мая
Я хочу сказать правду, признаться, что с самой первой секунды, когда Гвидо попросил меня поехать в Венецию, я не сомневалась, что соглашусь. Мне недоставало искренности признать это даже на страницах своего дневника. Ведь в противном случае мне пришлось бы также признать, что те усилия, которые я двадцать лет прилагала, чтобы забыть саму себя, были тщетны. У меня получалось до того самого мгновения, когда, спрятав ее под пальто, я принесла домой эту черную и блестящую, как пиявка, тетрадь. Тогда-то все и началось; в сущности, изменение в моих отношениях с Гвидо тоже началось в тот день, когда я признала, что способна спрятать что-то от своего мужа. Пусть даже обычную тетрадку. Мне хотелось уединяться, чтобы что-то в ней писать; а тот, кто хочет закрыться в собственном одиночестве, в семье, всегда несет в себе росток греха. Неудивительно, что сквозь эти страницы все выглядит иначе: включая то чувство, которое я испытываю к Гвидо. Я виню его деньги в тех слабостях, которые сама не способна преодолеть или принять. Я хочу тешить себя иллюзией, что некая посторонняя сила подталкивает меня изменить своему долгу, я не осмеливаюсь признаться, что люблю его. Я действительно думаю, что самое сильное чувство во мне – это малодушие.
Я решила, что поеду с Гвидо. Но потом, по возвращении, перестану с ним видеться. Я не смогла бы вести жизнь, состоящую из уловок, из вранья. Он поймет, поможет мне найти другую работу; дома никто не станет возражать, если жалование будет получше. Но сейчас я хочу уехать. Я уже написала тете Матильде: как только получу ее ответ, сяду на поезд: сразу же, в тот же самый день. В Вероне куплю новую ночную рубашку. Не может такого быть, чтобы все уже закончилось, в моем-то возрасте: дни унылые, ночи одинокие. Еще недавно Риккардо просил, чтобы я ложилась на кровати рядом с ним, чтобы он уснул; я гладила его по волосам, по лицу; у него были шершавые щеки, и он все еще говорил: «Хочу жениться на маме». Сейчас дом пуст и тих, слышно только, как хлопает дверь вслед уходящему Микеле, вслед уходящим детям.