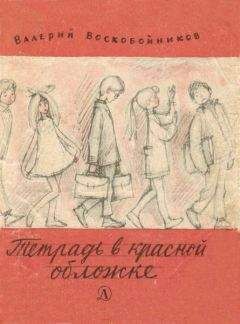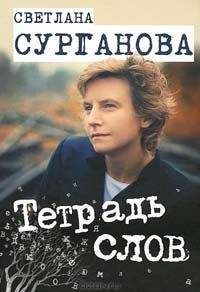Запретная тетрадь - Сеспедес Альба де

Мы вернулись в город, не спеша; видели, как он простирается под нами, как горят на улицах все его фонари. Я думала, что уже много лет как перестала бывать на Монте-Марио. В последний раз я приезжала туда навестить в больнице старую домработницу моей матери; помню ту долгую и утомительную поездку на трамвае. Гвидо держал руль одной рукой, а другой обнимал меня за плечи; и от удовольствия, которое доставляло мне то объятие, хотелось плакать. Мне казалось, что он хочет утолить такой же порочный голод, как и тот, что я испытала чуть раньше при виде еды. Я пыталась отодвинуться, отстраниться – может, чувствуя, что именно разная природа нашего голода подталкивает нас друг к другу и разделяет нас. «Нет», – шептала я, пока он, привлекая меня к себе, искал моих уст. Его губы пытались взять верх над моими, превозмочь оборону моих сжатых зубов. Уступи я ему, то ответила бы на поцелуй с неистовством, я бы чуть его не укусила. Мне удалось уклониться, несмотря на жажду и дрожь. «Умоляю тебя, Гвидо, умоляю», – твердила я. Он не стал настаивать; поцеловал мне руку, а затем быстро поехал к моему дому, потому что было поздно.
29 апреля
Может случиться, что я внезапно умру, не успев уничтожить эту тетрадь. Микеле или мои дети нашли бы ее, приводя в порядок дом, как всегда делают, когда в семье случается беда. Мысль о том, что они найдут ее после моей смерти, ужасает. Вчера вечером, сидя за столом – все вместе, потому что у меня были именины, – я смотрела на Миреллу, думая, что, может быть, если бы она нашла тетрадь, то уничтожила бы ее, не читая.
Моя мать не пришла, потому что никогда не выходит из дома вечером; она прислала тортеллини. Сегодня я позвонила ей поблагодарить и не сумела удержаться от того, чтобы сказать ей, что Микеле, к несчастью, не обратил на них особого внимания, потому что после ужина ему нужно было идти к Кларе, чтобы узнать что-то окончательное по поводу сценария, так что он был рассеян и в дурном расположении. Марина ни к чему не прикоснулась, а на мои увещевания отвечала, качая головой. Конечно, мысль о скором отъезде Риккардо тревожит ее; впрочем, он и сам – возможно, из уважения к ее чувствам – больше ни слова о нем не говорит. Вчера вечером он даже произнес: «Кто знает, поеду ли я вообще туда когда-нибудь, в Аргентину…» Марина не сводила с него своих осоловелых умоляющих глаз. «Нам так придется слишком долго ждать свадьбы», – добавил он. Я чувствовала, что они хотят затеять обсуждение этого вопроса, чтобы получить мое благословение; я сделала вид, что не понимаю, и сказала, что не вижу иного, более быстрого решения. Марина ничего не говорила. Риккардо заключил: «Что ж, посмотрим, Господь обо всем позаботится».
Позже, когда Микеле ушел, мы устроились рядом с радиоприемником: я вязала, вспоминая о том, что Риккардо сказал чуть раньше. Я подняла глаза и взглянула на него. Он сидел рядом с Мариной, и оба были худые, даже тощие. Риккардо утратил ту уверенность, которую любовь придавала ему в первое время: столкнувшись с серьезными решениями, которые предстоит принимать, он колеблется, ему страшно. Как в самый первый день, когда Марина вошла в наш дом, мне хотелось сказать ему: «Давай отправим ее восвояси». Потом смерила взглядом тщедушные плечи Марины, сказала себе: «Риккардо никогда не сможет обходиться без меня», – и вновь опустила взгляд на вязальные спицы, возвращаясь к своему занятию.
30 апреля
Вчера вечером, когда я кончила писать, был почти час ночи: Мирелла уже давно спала, Риккардо вернулся, проводив Марину домой, и тоже, без сомнений, спал. Я отложила тетрадь, привела в порядок столовую, а потом подошла к окну, потому что Микеле все не было и я волновалась.
Ночь была свежа, но нежна. Вместо того чтобы вглядываться в тенистую улицу – не покажется ли Микеле, – я смотрела на небо, на яркие звезды. «Пять дней в Венеции», – подумала я и решила тотчас же написать тете Матильде, предупредить о визите. Я представляла себе, как выглядываю из окна ее дома, который расположен на одной из этих характерных старых веронских улиц, узеньких и серых. Я заберу с собой тетрадь, думала я. Воображала, как кладу ее в чемодан, укрывая среди белья, захлопываю крышку, сажусь в поезд и больше не возвращаюсь.
Я долго простояла у окна и вздрогнула от холода, вернувшись в дом. Стояла глубокая ночь, а Микеле все не возвращался. Я легла в постель, а когда проснулась, подскочив от щелчка дверного замка, уже светало.
Микеле раздевался неспешно; я наблюдала за ним из-под полусомкнутых век, притворяясь спящей. Тайком рассматривала его осторожные движения, не узнавала их, и мое сердце билось в груди. Когда он залез в постель и лег, мне казалось, что мое тело чувствует его усталость. «Микеле…» – тихо окликнула его я. В холодном свете, падавшем из окна, я видела на стуле большую белую папку, которую он принес обратно домой. На спинке стула висел пиджак от его темного костюма: изможденно покачивались опустевшие плечи. «Шансов никаких – был один французский режиссер, который во что бы то ни стало хотел взяться. Но продюсеры говорят, что сценарий рискованный, не хотят брать на себя обязательств. Боятся войны». «Совсем не осталось больше никакой надежды?» – спросила я. А он, выдержав краткую паузу, прошептал: «Нет. Больше ни капли». Я заметила, как несправедливо, что жизнь, будущее человека все время зависят от внешних обстоятельств, от людей, которые сильнее его. «Моя мать, – добавила я, – тоже постоянно говорит, что если бы не война, этот Бертолотти не смог бы натворить все то, что натворил в семнадцатом году. И у нас все было бы хорошо». Он повторил: «Да уж, было бы». Я приблизилась к нему, сон снова овладевал мной, и я положила голову ему на плечо. «Слушай, мам, – сказал он, – я предпочел бы ничего не говорить детям». «Конечно, – заверила его я. – Ничего не скажем. При чем здесь дети? Это наши дела, Микеле».
4 мая
На этой неделе у нас было два выходных дня, вторник и четверг. В среду утром Микеле позвонил в банк, сказал, что ему нехорошо, и пролежал в постели до обеда, не включая свет. Я поддержала его; сказала, что он слишком много работает, учитывая его зарплату. Но когда я что-нибудь говорю, то нередко достигаю результата, противоположного задуманному: Микеле очень раздражителен с тех пор, как потерял всякую надежду продать сценарий. Он подскакивает при каждом телефонном звонке, может, еще надеется на хорошую новость, на то, что кто-то передумал. Но по телефону теперь звонят только детям, и это досаждает ему. Он сердится, что телефон вечно занят; я же, напротив, рада, что у них много друзей. Прекрасно помню: когда они еще были детьми и одноклассники звонили им по телефону, было так необычно слышать, как на другом конце провода чей-то робкий голос произносит их имя, – я чувствовала что-то вроде удивления оттого, что их знает кто-то еще, кроме меня. Они подходили к телефону, краснея, говорили поспешно, грубовато, и такое их поведение меня трогало.
Но Микеле просто не выносит детей в эти дни. Мне пришлось попросить их ходить тихо, не повышать голос, как я делала, когда они были маленькими; едва услышав, как они проходят мимо по коридору, Микеле срывается: «В чем дело? Что они? Чего им надо?» Ему бы попросить несколько дней отгула, отдохнуть. Я ему так и сказала, а он резко ответил, что прекрасно себя чувствует. Он сидит у открытого окна и смотрит наружу, хотя вид ничем не примечателен: дома, террасы и вывешенное сушиться белье. Когда смеркается, дома и террасы еще печальнее и серее, отчаянно кричат стрижи. Думаю, что Микеле напрасно там столько засиживается. Мне в этот час всегда хочется взять тетрадь и писать в ней.
Вместо этого я иногда устраиваюсь рядом. Теперь, столько всего поняв, мы, быть может, могли бы начать по-настоящему жить вместе, если бы не стыдились признаться друг другу в своих чувствах. Интересно: та скрытность, что в конечном счете разделяет супругов, – это порок или форма защиты? Когда мы вместе, одни, у окна, и чередой тянутся часы нашего краткого отпуска, я чувствую, что, вообще-то, могла бы и рассказать ему о Гвидо и о том удовольствии, которое я испытываю, видя, что он считает меня молодой и привлекательной женщиной. И в самом деле, это же абсурдно – жить вместе, как брат и сестра, и нести на себе вынужденные узы верности, которая естественна для влюбленных. Когда я смотрю на Микеле, то жалею, что больше не хочу поехать в Венецию с ним. Все было бы легко, просто, ясно, и меня не терзало бы столько противоречивых чувств. Но если бы мы поехали вместе, я бы не ощущала того счастья, которого жажду. Мы сидели бы в кафе на площади Сан-Марко, молча слушая музыку, отвлекаясь на лица прохожих, как иногда делаем в августе, когда Рим пустеет и мы отдыхаем в кафе на маленькой площади тут рядом, где небольшой оркестрик часто играет «Сон Ратклифа». Может, мы немного воспряли бы духом за столом траттории, где можно вкусно поесть; но мне не нравится ходить в тратторию с Микеле: глядя, как он, дважды перепроверив сумму, кладет наконец купюры в папку со счетом, я всякий раз думаю, что оно того не стоило.