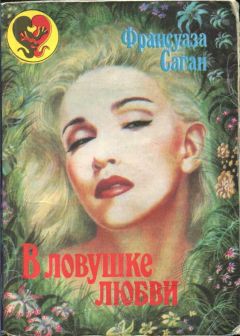Франсуаза Саган - Женщина в гриме
Наконец-то перед ним показалось лицо Клариссы, улыбающейся в ночи, внезапно такое отчетливое, давным-давно замершее перед ним. Настолько давно, что он в состоянии рассмотреть во всех подробностях ее ясные, удлиненные глаза, глаза потрясающие и сладострастные, прямую линию носа и скулы, проступающие при свете из бара, и очертания нижней губы, красной от помады, а затем розовой и даже почти что бежевой после поцелуя. И Жюльен внезапно ощутил подлинное прикосновение ее губ к своим, до того явственно, что он вскочил и раскрыл глаза. Лицо Клариссы исчезло, вытесненное очертаниями каюты, отделанной красным деревом, белыми простынями и медью, сверкающей под солнцем: солнцем, стоящим очень высоко, очень надменным, а также иллюминатором, оставшимся открытым со вчерашнего дня, усталым, то и дело ударяющимся о борт под воздействием утреннего ветра, тщетно пытающимся перехватить солнечные лучи. Солнцем, призывающим Жюльена к новому дню, к игре и к цинизму: словно для того, чтобы компенсировать воздействие бьющей через край сентиментальности, которая прежде была ему неведома, Жюльен Пейра раскрыл свой шкафчик и вынул оттуда поддельного Марке, которого пристроил на переборку вместо модели шхуны «Мечта Дрейка». Настало время всучить этот шедевр какому-нибудь болвану и стать чуть-чуть поизворотливее, хотя он подсознательно уже потратил эту выручку на подарки Клариссе.
После нескольких минут размышлений картину он снял и заботливо уложил между двух рубашек, предварительно обернув в газетную бумагу.
Кларисса проснулась потрясенная, переполненная чувством стыда, и решила поскорее забыть прошедший вечер.
На фоне бледно-голубого рассвета над Капри, неба, тем более бледного и голубого, что первые, скромные лучи солнца казались насыщенно-желтыми, Симон счел правильным разыграть полнейшее опьянение и в таком виде вернуться в каюту, точно так же, как он рассчитывал симулировать сильнейшую мигрень, когда проснется. Первая часть его плана вполне удалась: Чарли, Эдма и Ольга уложили его в постель. Он даже потянулся, и все присутствующие пожелали ему приятных сновидений. Затем Ольга попыталась его разбудить, но тщетно. Симон выдал такой зверский, такой громоподобный храп, что та вынуждена была отступиться. Но теперь время близилось к полудню, и было бы неверно, казалось ему, отказаться от грандиозного спектакля признаний и покаяний, возможностью которого он мучил Ольгу после последней стоянки. Ибо подобная сцена объяснений станет настоящей катастрофой! Катастрофой для него, пусть даже он будет правой стороной, истцом, обманутым мужчиной. Ибо, вполне возможно, Ольга, гордо выпрямившись, вдруг напустит на себя добродетельный, обиженный, благородный вид, станет отрицать какую бы то ни было измену, то есть все, что позволило бы ему испускать гневные павлиньи крики в защиту оскорбленного достоинства; или, напротив, сидя и держа в руках чашку кофе, начнет монотонно передавать ему подробности развратной ночи. И будет при этом преднамеренно употреблять примитивнейшие слова, слова «грубые и естественные», такие же простые, как урчание в животе, да еще в сочетании с «подростковыми» междометиями типа: «ух… ух… во-во… о-ля-ля!..», которые принято считать отражением юного поколения и его языка, правдивым отражением стиля времени и которые стали общим языком для множества кинематографистов, театральных деятелей, журналистов и даже писателей, людей, в целом достаточно зрелых. Симону хотелось бы избежать всего этого, он вовсе не жаждал услышать подтверждение того, что он уже знал, опираясь на свои ощущения. Не потому, что бы по этому поводу ни думала Ольга, что он не видел ее тщеславия, ее податливость мужским чарам: он просто не хотел страдать, не хотел воображать, представлять себе Ольгу в объятиях другого мужчины. Однако эти доводы в пользу того, что лучше было бы избежать признаний, столь сладких сердцу Ольги, как ему показалось, не годились, если самой Ольге они заведомо известны. Ибо если Ольга понимает, что он в нее влюблен, она не замедлит растоптать его. И Симону уже казалось весьма экстравагантным, как это он лежит и страдает на жестком ложе, под натянутыми простынями, устроившись на животе и повернув голову набок, словно ему двенадцать лет. Ему тогда казалось, что сердце его переполнилось кровью, несмотря на своего рода кровопускания, роль которых играли определенные образы, определенные желания, в частности, в отношении одной женщины, собственно говоря, девочки его возраста, да еще с косичками. И он считал себя в безопасности под покровом этих воспоминаний, начиная с двадцати лет; мир чувств для него был целиком подчинен миру материальному… Ему тогда нечего было терять, даже ради безумной любви, цинично подумал он: ни женщин-вампиров, ни женщин-завоевательниц, ни ожидания автобусов под дождем, ни тесных башмаков, которые никак не удавалось сносить. Он полагал, что избавлен от всего этого, равно как и от снисходительных взглядов официантов в «Фуке», благодаря триумфу в Каннах, благодаря своему успеху. Но может ли он себе позволить сменить это рабство на другое, ибо в данный момент он представил себе, что может быть еще хуже?
Все пришло к нему благодаря успеху. Он встретил Ольгу в Каннах, поскольку она находилась там в качестве актрисы, поскольку на нее был спрос, и она последовала за ним, так как была честолюбива. При всем при том сердце ее защищала прочная броня, по крайней мере, оно было защищено от каких бы то ни было чувств по отношению к Симону, что, однако же, вовсе не делало ее жестокой. Он же избрал Ольгу, поскольку она отвечала его эстетическим критериям и поскольку в физическом плане она была на три ступени выше всех своих предшественниц. И, в конце концов, Ольга была случайностью, той самой случайностью, которая превратилась в необходимость, в одну из тех неумолимых необходимостей, которые порождает страсть. К несчастью для Симона, именно боль, ревность и обман знаменовали начало его первой любви, как он ее себе представлял, забыв, что, начиная с двадцатилетнего возраста, он успел сделать брачные предложения доброй полдюжине нежных или самоутверждающихся особей женского пола. Все эти женщины, напоминал себе Симон, были тронуты этими предложениями и сохранили какие-то нежные чувства по отношению к Симону. Зато Ольга рассмеялась ему в лицо и, как ему стало известно, рассказала про эту его безумную выходку всему кинематографическому Парижу. Сам собой напрашивался логичный и здравый вывод: Ольга его не любила. «Неважно, не сейчас», – восклицала обезумевшая часть отлаженного духовного механизма Симона. Часть, которая отказывалась замечать беду и которая вопреки всем ошибкам, всем слабостям и материальным катастрофам его авантюрной жизни забивала ему уши дурацкой фразочкой: «Все устроится». И, действительно, со временем все устраивалось, только не так, как ему бы хотелось. «Жизнь сама решает все за нас», – повторял про себя Симон, закрыв глаза и не понимая, что именно он сам, в силу своих амбиций, смелости, энтузиазма, все для себя и устроил. Зато, во всяком случае, на этот раз не требовались ни смелость, ни энтузиазм, ни упрямство Симона. Таковые требовались от Ольги.