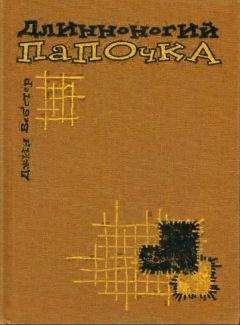Ромен Гари - Европа
Чтобы строить и сражаться, нужны были иные мечты.
Тогда Дантес и не думал стремиться к тому, что в этих обобщениях служило лишь прикрытием для бегства; он счел делом чести клятвенно отказаться от личной жизни. Культура была невыносима, пока не утратила свою привилегированность. Никто не мог причислить себя к ней до разделения. Олимп находился в изоляции. Слишком много было сделано для богов, которые ничего не сделали для людей, интересовавших их лишь как источник дани и еще большего обогащения за счет приношений таланта. Двадцать лет спустя Дантес прекрасно понимал своего сына, когда тот говорил о «культуре-шлюхе», о том, что в музей ходят как в бордель, обличал гуманизм и его камерные концерты, эгоистическую интимную музыку, которая укрывалась в гостиных, не высовывая носа на улицу. В ту минуту, приняв решение порвать со всем, что означало заботу о личном счастье, молодой человек был превосходно подготовлен к разрыву с Мальвиной. Маленькая драма совести так его успокоила, что он не увидел никакого противоречия между намерением жертвовать собой и назначением на должность секретаря посольства, объявленным вскоре после того, как он забрал прошение о согласии на брак. Его разрыв с Мальвиной состоялся в саду Пале-Рояля, это был тонкий дипломатический ход: говорить с глазу на глаз, в четырех стенах, не заботясь о реакции прохожих, было бы непереносимо. Он пропал на три недели, и за все это время она позвонила ему лишь однажды: у нее был слишком большой опыт, чтобы доверять телефонным звонкам.
Она подошла к нему — дама под вуалью, с зонтиком от солнца и с платочком — удивительно естественная в своей манере одеваться сознательно старомодно, словно создавая собственный призрак. Он помнил сиреневый шарф и большую широкополую шляпу, из которых ее глаза выглядывали, как из пещеры; он держался сухо, прямо, словно превратившись в мертвый механизм. Он держал в руке букетик фиалок, но забыл о нем. Несколько банальных вежливых слов он пробормотал машинально.
— Как я понимаю, вы пришли положить цветы на мою могилу…
Они говорили по-немецки. Дантес предпочел объясняться на иностранном языке.
— Это разрыв не с вами, Мальвина, но со всем, что в мечтаниях о счастье так и остается островом…
— Да, конечно, это не разрыв, это революция… Я поняла бы вас гораздо лучше, если бы вы ушли из министерства и вступили в коммунистическую партию.
— Я больше не могу довольствоваться самим собой, вот и все…
— Говорят, вы получили назначение в Китай?
— Если вы думаете, что на мой отказ повлияли соображения карьеры…
— Жан, не говорите, что карьера дипломата сурова, как орден траппистов… Впрочем, неважно; я старше вас на двенадцать лет, не считая веков, у меня было много любовников, и я сознательно выбрала… профессию, которая не в ладах с моралью, я это признаю. И все-таки жаль, что Министерство иностранных дел не заметило во мне одного качества, столь необходимого для жены посла: я прекрасно умею принимать…
Она решила быть ироничной.
— Возможно, вы напрасно не рассказали мне раньше… о Вене.
— Вы любите правду? С каких пор?
— В общем, я отъявленный негодяй.
— О нет, я этого не сказала, я охотно признаю, что вы проявили сознательность… в социальном плане. И я не хочу говорить о снобизме, буржуазной морали, приличиях. Вполне можно быть мечтателем и в ужасе обратиться в бегство, как только сон угрожает стать реальностью. Вполне можно мечтать о Европе распутства и безнравственных знаний, а потом вдруг понять, что, по сути, любил только чтение… Века, которые читаешь и перечитываешь, но как далеко от этого до верности им…
— Не знаю, что еще сказать вам, кроме того, что я очень нежно любил вас.
— Сделайте одолжение, обойдемся без сантиментов.
— В наше время любовь всегда преступна, — сказал он. — Посмотрите вокруг…
— Да, конечно, нищета мира. Хорошее утешение. Спрятаться за спинами миллионов людей, подыхающих с голоду по всей земле, чтобы расстаться с женщиной. Хватит.
— Я хочу жить в своем времени.
— Попробуйте, расскажете мне, что там нового.
— Я не стремлюсь оправдаться.
— Да, только сделать это изящно…
Он произнес это жестко и не узнал своего голоса:
— Вы заметили, что мы снова дали искусству беседы завладеть собой?
Она смотрела на него. Тень от шляпы упорно пыталась скрыть ее слезы.
— Я не вижу ничего вокруг нас, Жан, что предлагало бы иной выбор: только иллюзия и обман. Желаю вам достичь социальной метаморфозы. — Она улыбнулась. — Наверняка министерство такого еще не видело…
Она повернулась. Он отпустил ее с отвратительным чувством, что все прошло как нельзя лучше.
XXXVII
Посол нашарил в кармане трубку; у него было такое ощущение, что кто-то другой сделал это движение, кто-то другой был вместо него, в его одежде из серого твида, в бледном свете неба, который отражали оконные стекла. Вся его последующая жизнь была совершенно никчемной; это была не иллюзия: это был обман. Она оказалась права, права насчет него. Он сделал выдающуюся карьеру, которая никому ничего не принесла: по сути, он продолжал блистать в искусстве беседы. Он страдал не оттого, что солгал, а оттого, что не добился успеха в своем обмане. Он был не из тех, кто делает революцию, но, возможно, из тех, чье существование ее подготавливает. Его сын… Снова оправдания. Он уже и не пытался выдумывать себя, но с той поры, как впервые увидел Эрику, с той поры как она появилась, так похожая на мать — те же глаза, те же черты, та же красота, избежавшая холодного совершенства благодаря бесконечному многообразию выражений, тот же голос, та же походка, с каждым шагом словно что-то предлагающая земле, — он стал мечтать о ней, выдумывать ее со всем талантом, которого ему недостало на то, чтобы создать самого себя. Сколько людей получили от жизни второй шанс? На этот раз он не подчинится законам реальности, ему хватит воображения.
XXXVIII
Бал у леди Мендль состоялся через две недели после разрыва. Около трех часов ночи, когда праздник завершался в утомлении, от которого и лица, и костюмы мнутся и обретают неряшливый вид, так что впору нести их на склад бутафории, когда он, за неимением машины, ждал у гардеробной Луизу де Вильморен, предложившую место в своей, на его плечо легла рука: Мальвина…
— Подвезти вас?
Он не успел даже задуматься и оказался рядом с ней в машине, стесненный настолько, насколько это возможно для человека, чья профессия состоит в том, чтобы никогда таковым не быть. Он не произнес ни слова, молчание в конце концов стало тяжким — тема чудовищно банальная. Она даже не пыталась прийти к нему на помощь. Она гнала чересчур быстро. Фары, не считаясь с правилами, с вызовом слепили глаза. А потом он отчетливо услышал, он был в этом уверен, хотя сильный удар оставил пробел в его памяти, слова, которые она вдруг произнесла детским и пронзительным голосом:
— Вот так!
Он пролежал без сознания несколько часов, и только через десять дней смог прийти к ней в больницу. Его не пустили. Состояние критическое, между жизнью и смертью, говорили врачи. Травма позвоночника… После многократных просьб он все-таки смог проникнуть в комнату, пахнувшую инъекциями. Она узнала его. Когда он вышел, сиделка сказала, что ей в первый раз удалось произнести несколько слов:
— Я возвращаюсь домой… Я зря путешествовала, восемнадцатый век лучший из всех… Может быть, мы встретимся, хотя я не уверена, что у вас хватит способностей…
В коридоре он сказал доктору:
— Нет, она не бредит: просто это женщина, которая по-настоящему умеет лгать… Доведенный до такой степени, обман становится продуктом цивилизации…
Он писал ей, пытался ее увидеть. Ему дали понять, что об этом не может быть и речи.
Если она хотела его наказать, у нее получилось великолепно. Когда она направила машину на грузовик, в этом желании увлечь его за собой в смерть было еще что-то, как будто прощение. Потом она вела себя безжалостно. Она обрекала его на угрызения совести, маленькие и тихие угрызения, чуть ли не с гримасой отвращения. Но теперь у него была Эрика, и все кончилось. Фатум связал все удивительным образом, все было тщательно подготовлено, рассчитано; разрыв в саду Пале-Рояля зависел не от него: так должно было произойти, чтобы он мог встретить Эрику.
Он услышал, как отворилась дверь, и обернулся: возвратился его сын.
— Когда ты перестанешь играть в сумерки богов?
Рука Марка искала выключатель.
— Идет забастовка, ты знаешь?
— Я думал, коммунистический муниципалитет тебя пощадит. Вообще-то они охраняют музеи и пережитки прошлого… А Фирмен, почему он до сих пор не зажег свечи?
— Фирмен, которого, между прочим, зовут Джузеппе, уехал на своем «фиате» — у него же вечерний отгул.