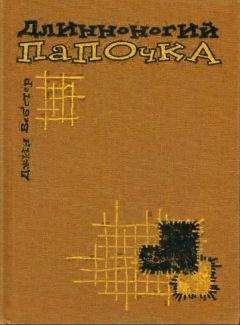Ромен Гари - Европа
Дантес размышлял о том, как Эрика готовится к прогулке, и в то же время наблюдал за ее приемным отцом. Он спрашивал себя, чем так заворожил его этот персонаж. Несомненно, можно было назвать обманщиком и паразитом этого Провозгласителя, имитатора Немеркнущего Достоинства, Пастыря заглавных букв и Искупителя слов, этого Гранда в кругу Знатнейших, Предтечи Последнего Пришествия, Немого Рассказчика, из недостижимой глубины своей души, о непреложном превосходстве человека надо всем, что с ним случается, Вестника Спасения, которому сотни верующих во все времена давали пищу, кров и чистые рубашки. И все же трудно было не восхищаться удивительным упорством, с которым он играл свою роль, несмотря на то что в течение тысячелетий реальность пыталась разоблачить и развенчать его, от избиения до избиения, от гонения до гонения.
Подняв одну бровь и легонько, по-чаплински подергивая седыми усиками, Барон чуть замутившимся взглядом созерцал лучезарное будущее породы людей, принадлежность к которой он симулировал. Единственным, что выдавало в нем живого человека, было дыхание, основательно сдобренное парами отличного виски. До того как Ма подобрала его взамен умершего маленького мопса, подаренного ей Екатериной Великой, Барону уже не раз доводилось служить. Дантес поведал Эрике, что впервые он появился в эпоху Возрождения, при дворе герцогов Медичи, хотя кто-то из историков вроде бы нашел упоминание о нем во времена рыцарства, кроме того, он был постоянным спутником Эразма, который неоднократно с уважением говорит о нем в «Похвале глупости». На картинах того века он изображен в соседстве аллегорических фигур с увесистыми ягодицами — Добродетели, Европы на быках, торжество Разума в окружении Муз, крылатые богини Славы и пиры Эпикура, — а его сходство с философом, склонившимся над письменным прибором, на знаменитой картине Розенкранца из Мюнхенской картинной галереи поразительно: на ней Барон пишет трактат о безнравственности души, при свете свечи, а вокруг и над ним шуршат крыльями все Добродетели, освещающие Мир. Дантес утверждал, что самым трудным делом и самым большим успехом Барона в этом непрерывном многолетнем обмане было умение остаться таким порядочным, как будто еще можно доверять людям. Ма мечтала поместить его на алтаре в кабинете, где она принимала клиентов, что позволило бы ей увеличить гонорары, но отказалась от этой идеи из уважения к древним — церковь переживала не лучшие времена, и негоже было с нею конкурировать. Так или иначе, Барон был чудесным Арлекином на звездном пути вселенской насмешки, неотделимой от всякой истинной веры, которую она подвергает испытанию, и его присутствие давало Ма большую моральную поддержку. Он подражал внутреннему человеческому аристократизму, презрению к историческим мелочам, уверенному и нетерпеливому ожиданию Утопии; чувствовалось, что он всегда готов перешагнуть еще через несколько миллионов трупов и, возвышаясь над Аушвицем, из-под руки глядеть на Европу будущего, вопреки рычащим собакам реальности, схватившим его за фалды. Человек давным-давно воздвиг себе этот великолепный памятник. Нужно было только поддерживать его.
Эрика обхватила голову руками и рассмеялась. Шулер, сутенер, три года тюрьмы за подделывание денег, неоплаченные чеки, долг воображаемому, который человечество никогда не будет в состоянии оплатить… Смех переходил в истерику, а Ма не следовало беспокоить. Но она чувствовала, что Дантес наблюдал за ней, и в самом деле, именно он остановил этот смех на грани рыданий. Она сказала себе, что пора перестать играть в куклы, рядить свою тоску в разные одежды; маскарадные костюмы парили в пустоте, а маски в конце концов неизменно падали, не сумев скрыть то, что не имело ни формы, ни лица; Пьеро, Арлекин и Коломбина помогали на несколько мгновений своей воздушной легкостью, но очень быстро выдыхались и исчезали: тогда со всех сторон подымались вихри невидимого и завывания страха. Это несносная привычка, ворчал Жард; нужно было примириться с банальностью: жить и любить — искусство компромисса; если позволять детским игрушкам расти беспрепятственно, то в итоге они превратятся в устрашающих монстров. В семь, восемь лет можно без опаски болтать с Прекрасным Принцем, ездить на балы с Котом в сапогах; в двадцать три власть воображаемого может захватить вас навсегда, и ваши игрушки в конечном счете увлекут вас с собой. Но покориться было так нелегко. Хорошо, Ма, до того как стала давать советы на будущее, по сотне франков за иллюзию, была всего-навсего высококлассной шлюхой и вдобавок содержательницей публичного дома; у Барона не было другой тайны кроме той, что толкает людей на пьянство; да, следовало покориться; а, b, с, алфавит, грамматика, синтаксис жизни; знаки препинания — где немного мечты, где немного любви — и точка, смерть. Нужно, говорил Жард, учиться принимать близость того, что вселяет страх в сердца людей и не поддается объяснению; есть средство бороться с пугающим отсутствием смысла — утешение музыкой, поэзией, произведениями искусства; да, нужно привыкнуть, что рядом — нечто меньшее, чем ничто. Однако на губах Эрики уже появлялась вызывающая улыбка, одновременно виноватая и веселая; этот милый доктор не понимал, что, возможно, избыток воображения имел другие корни, что он был плодом другого воображения. Добрая фея, маленькая фея, нежная фея, недостаточно знать, что ты не существуешь, чтобы усомниться в твоем существовании. Знание — бесконечная глупость, неслыханная претензия, утешительное прикрытие тех, кто не знает. Евгений Онегин всегда был одним из ее любимых персонажей; она хотела бы встретиться с Пушкиным, и если мечтать о подобной встрече было абсурдом, значит, абсурд сдал позиции или даже перестал существовать, то есть превратился в закономерность, неумолимую логику, пал под натиском очевидного «дважды два — четыре». Но сначала нужно было выкатить кресло Ма в комнату и закрыть балкон, потому что в сумерках от озера подымалась сырость, которую ее бедное обездвиженное тело совсем не переносило. Эрика встала, втолкнула кресло внутрь. Семья воссоединилась. Семья мошенников — видно невооруженным глазом. Но из них троих она была самой одаренной.
— Завтра я хочу поехать к парикмахеру, — заявила Ма. — В деревне есть приличный парикмахер? Бальзамы у меня с собой, но на все это уходит не один час, я быстро устаю. Мне стоило бы открыть салон красоты — при таком количестве всяких секретов я бы разбогатела.
— Если хочешь, с утра пораньше поедем во Флоренцию. Перед моей «велосипедной аварией»…
— Это великий день. Мне непременно надо быть в хорошей форме…
Она говорила так, будто должна была собственноручно тянуть за нити судьбы, а это работа не из легких.
— А если не сработает? Если он проедет мимо?
— Абсурд. Все уже сделано. Вот что я тебе скажу, деточка: даже если бы мы сюда не приехали, даже если не подстроили бы эту встречу, вы бы все равно встретились и поженились.
— Фатум?
— Да. Видишь ли, он передо мной в долгу. Конечно, мы с ним в прохладных отношениях после того, как я попала в аварию. Но есть вещи, которые сердце матери…
— Мама, прошу тебя. Что за простонародное выражение.
— А с каких это пор народ стал непопулярен?
— «Сердце матери» осталось в трущобах. Мы больше не имеем на него права. Мы имеем право только на разум…
Мать не ответила, и Эрика обернулась, удивленная ее молчанием — Ма всегда старалась оставить последнее слово за собой. Потрясенная, она увидела слезы в ее глазах, где отражался закат.
— О, мама, please… Прости меня…
— Ладно, ничего страшного. Но жить в инвалидном кресле очень тяжело, Эрика. Требуется вагон иллюзий. Нужно посмеиваться надо всем понемногу, чтобы не поддаваться трагизму. Что касается народа, то, насколько мне известно, он еще не достиг святости. Если о нем всегда надо говорить почтительно и преклонив колени, можно и соборы строить в его честь. Непочтение — единственное испытание, из которого с честью выходит то, что достойно почтения. Дидро в письме к Софи Воллан писал, что добродетель «не противится игре воображения» и что он испытывает неприязнь лишь к слову, «перегруженному почтением»… Ты, естественно, знаешь, кто была Софи Воллан?
— Конечно, — мягко сказала Эрика. — Это была ты.
Она на мгновение опустила руку на плечо матери, потом вышла.
XXXVI
Наступающий вечер еще не тронул окна, в которых кусок неба прямо перед балконом переливался розовым и голубым; паркет скрипел не под ногами призраков Гварнари, Бальдини, Сфорца, некогда приезжавших сюда насладиться досугом, но от укусов вечерней сырости, в которой становились тяжелее запахи и сожаления; Дантесу не удавалось оторваться от теней. Серый рисунок стекал на него, как живая камедь, помогая раствориться, стушеваться; материальный мир вернулся в состояние наброска; его крики утопали в музыке тишины; мощный ритм его дыхания стал всего лишь дуновением; сознание медленно скользило за нитью мгновений, забытых Временем и остановленных вечностью, — как длинные черные пряди Исиды, превращающиеся в реку, на картине Клементиуса Гелроде в Берне. Воображение не могло ни завершить свое произведение и навязать его видимому миру, ни удовольствоваться этими бесплотными эскизами. Он видел тяжелый «мерседес» с откидным верхом, профиль сидящей за рулем Мальвины; ее слезы. Он порвал с ней за две недели до того и не должен был идти на этот снобистский бал в Версале: он проявил неуважение к своему горю. Но ему было двадцать пять лет, он только что пожертвовал скандальной связью ради карьеры и хотел шумом заглушить чувство стыда, спрятать ощущение собственной заурядности и малодушия под праздничным видом; укрыться в элегантном костюме с орхидеей, забыть впечатление полного краха, которое, несмотря ни на какое самовнушение, оставил этот разрыв со страстной любовью во имя приличий, навязанных чужим авторитетом… Он прибыл в Версаль одним из первых. Он не ожидал увидеть Мальвину в числе гостей леди Мендль. Однако он знал, что у прекрасной англичанки не много предрассудков, и не было вовсе, если речь шла о венецианском празднике. Скандальная репутация Мальвины, закрепившаяся за ней благодаря ее положению в «замке» Лебентау, была известна всем, но на этот раз сыграла в ее пользу: леди Мендль без колебаний пригласила ее на свой венецианский карнавал в стиле XVIII века, восхищенная возможностью придать празднику иронический штрих аутентичности, который сообщало присутствие знаменитой содержательницы публичного дома. Он увидел Мальвину, одетую предсказательницей будущего, в компании английского посла Даффа Купера в костюме гондольера и Марии-Лауры де Ноайль, которая приехала в обычном наряде, что было лучшей маской для этой великолепной фантазерки. Англичанин, который был ловеласом и все прощал красоте, знал, как и все тогда, что Мальвина питала страсть к какому-то довольно посредственному атташе при посольстве. Дантес словно очутился перед статуей Командора, испепелявшего его взглядом — Даффу не нравились слабые натуры. Мальвина отошла в сторону и затерялась в толпе турок, далматов, левантинцев, пытающихся воссоздать атмосферу Broglio под звуки шарманки, на которой суетилась обезьянка с черным личиком, вытаскивавшая билетики с предсказаниями. Дантес увидел, как Мальвина скрылась среди лакеев в костюмах дожа Венеции Луиджи Мочениго и американских генералов, выглядевших малоубедительно в кружевах и шелке и похожих на плохо замаскированных частных сыщиков, нанятых для охраны драгоценностей.