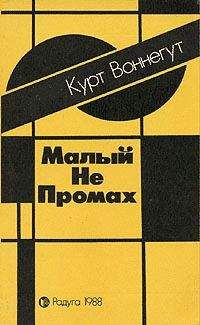Паул Гласер - Танцующая в Аушвице
Там нас упихивают в открытые угольные вагоны и дальше везут поездом. Мы едем день и ночь. Иногда поезд подолгу стоит. Почему стоит, непонятно. Время от времени слышны свистки паровоза. Его приводит в действие пар. Удивительно, как в этом хаосе все еще нормально функционируют железные дороги. Есть вода, есть уголь. Если станцию разбомбили, поезд следует другим маршрутом через другие станции. Как правило, союзники бомбят большие станции и забывают бомбить маленькие. Поэтому поезд может продвигаться вперед объездными путями.
Когда поезд останавливается, мы смотрим на наших попутчиков, которые не шевелятся. Напротив меня сидит человек с широко открытыми глазами. Взгляд прикован ко мне, но его глаза не мигают. Когда выясняется, что попутчики мертвы, их обыскивают в поисках еды, снимают одежду и обувь, а потом нагие тела выбрасывают из вагонов. Слышно, как тела шлепаются на землю. Один раз слышно, как что-то хрустит. Но и этот звук уже ни на кого не производит впечатления. В вагоне становится больше места для тех, кто еще жив, и больше одежды, чтобы защититься от холода и ветра. Того мужчину, который смотрел на меня, тоже выбросили.
Покидать вагоны нам запрещено. Эсэсовцы тут же стреляют на поражение, как это случилось во время последней остановки, когда несколько человек попробовали выйти. Мне до сих пор кажется странным, что такие толпы эсэсовцев занимались оборванными, истощенными заключенными, вместо того чтобы сражаться на фронте или дожидаться окончания войны дома. Идиотская стратегия, по-прежнему думаю я. После остановки поезд снова ползет вперед или возвращается назад. Всем ясно, что фронт почти рядом и русские стремительно наступают. Мы же откатываемся все дальше на запад.
Так мы пересекаем линию Одер — Нейсе[93] и однажды ночью останавливаемся на сортировочной станции под Берлином, где нас ждет эффектное представление: мы наблюдаем ожесточенную бомбардировку города. Отсюда нас везут дальше, чтобы в конце концов — совершенно измученных от холода, голода и жажды — доставить в концлагерь Равенсбрюк. Из сотни с лишним человек, спрессованных со мною в одном вагоне, в пути погибла почти половина. И нам еще повезло, что наш поезд не попал под огонь истребителей. Это случалось теперь регулярно, но нас как-то пронесло. По приезде нам уже все безразлично. Ноги у меня отморожены и все пальцы почернели. Ботинки с моих ног приходится срезать. Марта дошла до последнего предела, она не смогла бы протянуть дольше, но и она пережила это кошмарное путешествие. И сейчас только это имеет значение.
В лагере обнаруживается, что помимо отмороженных пальцев я заработала сыпной тиф. Это смертельный диагноз, поэтому я попадаю в больничный барак. Но поскольку у меня лично болезнь оказывается недостаточно серьезной, во всяком случае — не в поздней стадии, меня оттуда снова хотят выпроводить. К тому же у них больше нет вакцин от сыпного тифа, а вон у скольких людей те или иные заразные заболевания! Дежурному врачу — женщине — я говорю, что работала медсестрой, а потому могу, несмотря на тиф, остаться здесь помогать персоналу, так как в больничном бараке явно не хватает рабочих рук. Мои пальцы, по счастью, через несколько дней благополучно оживают, в них еще ощущается покалывание, но чернота уходит. Мне снова дают еду, хоть и не слишком много. В хаосе, воцарившемся в лагере после нашего прибытия, я потеряла Марту. Наверняка она в одном из битком набитых бараков. Лагерь переполнен. Чтобы пристроить вновь прибывших заключенных, на территории лагеря расставлены палатки. Палатки в январе! Но это лучше, чем ночевать, как ночевали мы все прошедшие сутки, прямо под открытым небом.
Моя работа в больничном бараке налаживается, у меня завязываются хорошие отношения с женщиной-врачом. Мы с ней часто болтаем. Она тоже заключенная. Ее отец когда-то был коммунистом, а дети в таком случае тоже представляют опасность для государства. Я рассказываю, что мои родители — евреи, а потому я тоже страшно опасна для нацистского режима. Мы обе хохочем. Она родом из Дюссельдорфа. Он расположен совсем недалеко от Клеве. У нас обеих ностальгия по нашей юности, по человечности — и мы не можем наговориться друг с другом среди кипящей вокруг суеты. Но внезапно у меня вновь разыгрывается тиф, дремавший в моем организме. Разом поднимается высоченная температура, и несколько дней я в очень тяжелом состоянии балансирую на грани жизни и смерти. Зато теперь — как серьезно больная — я с полным основанием могу находиться в больничном бараке. Так решает моя “опасная для государства” подруга-врач.
Совершенно неожиданно в лагере появляется шведский Красный Крест. В воротах лагеря его представители передают продовольственные пакеты скандинавским заключенным. В основном это датские и норвежские полицейские. Как правило, они отказывались сотрудничать с оккупантами и арестовывать соотечественников. За это полицейских самих задерживали и депортировали в немецкие концлагеря. В Равенсбрюке все скандинавы были аккуратнейшим образом зарегистрированы. Однако в настоящий момент Великая немецкая административная система трещит по всем швам. В нарастающей неразберихе, связанной с притоком в лагерь новых заключенных, я вижу свой шанс и говорю немцу, отвечающему за распределение продпакетов в больничном бараке, что я — датчанка. Доктор подыгрывает мне, и я тоже получаю продовольственный пакет.
Этот пакет я предлагаю женщине-врачу обменять на вакцину против тифа. Та сохранила несколько ампул сыворотки для себя, но все же соглашается обменять их на пакет, уж больно давно ее мучает голод. А ей надо держаться на ногах, чтобы хоть как-то помогать бесконечным лагерным больным. Из плотно упакованного пакета я украдкой вытаскиваю колбасу и пачку крекеров. Вакцина и дополнительное питание возвращают мне силы.
Шведский продовольственный пакет во всех смыслах спасает мне жизнь. Почувствовав себя чуть лучше, я ухожу из больничного барака. В хаосе и страшной грязи Равенсбрюка отыскиваю Марту. С этого момента мы больше не расстаемся.
Не успели мы прожить три недели в Равенсбрюке, как нам снова велено отправляться в путь: теперь мы должны рыть окопы в Шпреевальде под Берлином. Нас с Мартой и другими заключенными везут туда на грузовике. Когда мы едем через Берлин, нас поражают последствия непрекращающихся бомбардировок. Теперь большая часть этого некогда прекрасного города лежит в руинах. Исчезли целые жилые кварталы.
Впервые с тех пор, как разразилась война, я снова вижу берлинцев. Вокруг царит гнетущая атмосфера. Все понимают, что война проиграна. Русские вот-вот возьмут Берлин, но немцы продолжают сражаться. У женщин на улицах — серые озабоченные лица. Многие тащат на спинах тяжеленные сумки. Одни люди толкают перед собою детские коляски, другие волокут деревянные тележки с домашним скарбом или дровами… Давно небритый мужчина, пустой рукав заправлен в карман пальто… Очередь женщин у все еще работающего насоса или пожарного крана… В городе ощущается нехватка всего. Автомобили, которые еще на ходу, принадлежат армии. То здесь, то там встречаются группки военных. Брусчатка выломана из мостовой и уложена в баррикады. Мешки с песком образуют заградительный вал у входа в метро. Кое-где дорогу перегораживают снятые с рельсов трамваи. Берлин готовится противостоять наступлению русских.
Мы подъезжаем к перекрестку, в центре которого стоит большая пушка. Рядом с ней — пожилой военный и мальчишки лет четырнадцати-пятнадцати, в черной форме. Их головы не защищают каски, только пилотки, на рукавах — повязки со свастикой. Возле них наш грузовик останавливается, нам велено вылезать из кузова. И сразу же — за работу: не расчищать завалы, а наполнять мешки песком из ближайшей воронки. Потом мы на тачках отвозим эти мешки на перекресток и там укладываем штабелями друг на друга для защиты солдат с пушкой.
Прохожие и юные солдатики с любопытством разглядывают горстку заключенных. И наоборот. Я вижу, как рядом с солдатиками останавливается одноногий мужчина на костылях. Судя по всему, он знает одного из мальчишек в черных пилотках. Он пытается убедить его и его товарищей бросить пушку и разойтись по домам. Жестом показывает им на место, где у него была нога. Все вокруг начинают переругиваться и кричать о предательстве. Мужчина ковыляет прочь. Мы таскаем мешки, и наша работа успешно продвигается. Проходит полдня, прежде чем я наконец улучаю минутку, чтобы перекинуться словечком с одним из мальчишек, стоящим чуть в стороне от группы. Он удивляется тому, что я заговариваю с ним по-немецки и спрашиваю, почему у их пушки такой длинный ствол. Он отвечает немного нервно, но все же рассказывает мне, что эта пушка называется Flak. Она предназначена для того, чтобы сбивать самолеты, летящие высоко в небе. А здесь пушка установлена, чтобы остановить русских на всех улицах, сходящихся на этом перекрестке. Подтащив очередной мешок с песком для сооружения укрепления, я снова внимательно смотрю на мальчишку. Совсем еще ребенок. Я улыбаюсь ему, и он улыбается мне в ответ. Это видит пожилой военный — он приказывает солдатику вернуться назад к группе. Там они стоят, переговариваются и курят. А с заключенными никому общаться не положено. На месте, где стоял солдатик, я замечаю две сигареты. Оставил для меня? Я быстро подтягиваю туда мешок с песком и забираю сигареты. Когда работа закончена и последний мешок уложен в заградительный вал, почти наступает вечер.