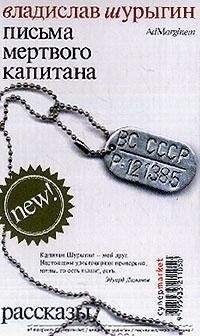Джоанн Харрис - Пять четвертинок апельсина
Прошло довольно много времени, крики подвергаемой порке Ренетт затихли, они с матерью вышли из дома; мать еще держала в руке бельевую веревку. Обе снова в молчании принялись за работу, Ренетт время от времени шмыгала носом и утирала красные глаза. Вскоре у матери опять начался тик, и она ушла к себе в комнату, строго-настрого наказав нам закончить сбор падалиц и поставить вариться варенье. О случившемся она не вспоминала и даже, кажется, забыла об этом, но я слышала, как ночью Ренетт ворочалась и тихонько плакала, и я заметила красные рубцы у нее на ногах, когда сестра надевала ночную рубашку.
Случай этот был необычный, однако не последний в цепи необычных поступков моей матери в то лето, и был скоро забыт всеми, разве что кроме Ренетт. У нас были заботы поважнее.
11.В то лето с Полем мы виделись редко; пока у Кассиса с Ренетт были каникулы, он держался от нас на расстоянии. Но к сентябрю, когда уже близились школьные занятия, Поль стал все чаще наведываться к нам. Хоть Поль мне очень даже нравился, но мне бы очень не хотелось, чтоб он столкнулся с Томасом. Поэтому я часто скрывалась от него, отсиживалась в кустах у реки, ожидая, пока он уйдет, не отвечала на его оклики или даже делала вид, что не замечаю, когда он мне махал. Немного погодя он вроде бы все понял, потому что приходить перестал.
И в этот-то момент мать стала вести себя по-настоящему странно. После истории с Ренетт мы поглядывали на нее настороженно, снизу вверх и с опаской, как первобытный народец на своего идола. Да она и была для нас чем-то вроде идола, посылавшего нам по своей прихоти милости и кару, и по ее улыбке или сдвинутым бровям мы учились определять, откуда ветер дует. Но с приближением сентября и начала школьных занятий у двух старших мать стала еще мелочнее, чем прежде, срывалась по любому пустяку — из-за скатерти, брошенной у раковины, тарелки, оставленной сушиться, пыльного пятнышка на стекле фотографии. Головные боли изводили ее чуть ли не ежедневно. Я прямо-таки завидовала Кассису с Ренетт, что они целыми днями в школе, ведь начальную школу в нашей деревне закрыли, и мне оставалось ждать еще целый год, когда можно будет ездить с ними в Анже учиться.
Я часто прибегала к помощи апельсинного мешочка. Тряслась, что мать раскроет мои фокусы, но все же не могла остановиться. Только после своих таблеток она успокаивалась, а пила их только тогда, когда пахло апельсином. Я запрятывала свой запас апельсиновой корки глубоко в бочку с анчоусами и доставала при необходимости. Дело было рискованное, но в результате я обеспечивала себе на пять-шесть часов необходимую передышку.
В промежутках между этими краткими передышками военные действия продолжали развиваться. Я росла быстро: уже почти догнала Кассиса и перегнала Ренетт. Я унаследовала острые черты лица матери, ее темные глаза, настороженный взгляд, прямые черные волосы. Это сходство мне докучало даже больше, чем ее собственные странности, и по мере врастания лета в осень недовольство мое росло и росло и уже не давало мне спокойно жить. В нашей спальне был осколок зеркала, и я тайно от всех в него посматривала. Раньше я почти не уделяла внимания своей внешности, но теперь верх взяло любопытство, на смену которому пришел критический взгляд. Подсчитывая свои недостатки, я пришла в ужас от их количества. Как было бы хорошо иметь вьющиеся, как у Ренетт, волосы, полные, алые губы. Я потихоньку таскала у нее из-под матраса фотографии актрис и уже знала их все наперечет. Их внешность не вызывала у меня восторженных вздохов — я скрежетала зубами от отчаяния. Я накручивала волосы на тряпочки, чтоб они курчавились. С яростью щипала, чтоб вырастали, свои светло-коричневые соски. Все впустую. Я оставалась точной копией своей матери: угрюмой, замкнутой и нескладной. Появились во мне и другие странности. Мне снились сны как явь, я просыпалась, тяжело дыша, в холодном поту, хотя ночи уже становились прохладными. У меня обострилось обоняние, и в иные дни я даже, при том что ветер дул в противоположном направлении, чуяла запах горящего сена с полей Уриа. Или могла точно сказать, что Поль ел копченую свинину. Или, еще и не выйдя в сад, — что именно мать готовит на кухне. Впервые я различила свой собственный запах — солоноватый, с рыбным душком, жаркий запах, который не улетучивался, даже если я терла кожу лимонным бальзамом и перечной мятой. И еще резкий, масляный запах своих волос. У меня, которая до того никогда не болела, появились колики в животе. И головные боли. Мне стало казаться, что, может, я унаследовала от матери и ее странности, и эту страшную, безумную тайну, к которой и я сделалась причастна.
А раз проснувшись утром, я увидела на простыне кровь. Кассис с Ренетт спешили к велосипедам, чтобы ехать в школу, и им было не до меня. Я инстинктивно прикрыла одеялом испачканную простыню, накинула старую юбку и джемпер и пустилась бегом к Луаре, чтоб получше рассмотреть приключившееся со мной бедствие. Ноги оказались в крови, я вымыла их в реке. Из старых носовых платков я попыталась соорудить себе повязку, но повреждение оказалось слишком серьезным, слишком глубоким. Казалось, будто меня, нерв за нервом, раздирает на куски.
Мне и в голову не пришло сказать об этом матери. О менструации я и слыхом не слыхала — в отношении физиологии мать была до ужаса стыдлива, — и я решила, что у меня страшная рана и что, возможно, я умираю. То ли неосторожно грохнулась где-то в лесу, то ли отравилась грибами, то ли от чьего-то сглаза кровь из меня так и хлещет. В церковь мы не ходили — мать с неприязнью отзывалась о, по ее выражению, «святом племени», и насмехалась над теми, кто ходил в церковь, — но при этом ей удалось внушить нам глубокое осознание греха. «Дурное так или иначе выходит наружу», — говаривала она. Для нее мы, как бурдюки, наполненные кислым вином, были вместилищем всевозможных пороков — за нами нужен глаз да глаз, не дай бог прорвется, и каждый ее взгляд, и каждое пришептывание лишний раз подчеркивали, как непоправимо черно у нас внутри.
Я была гаже остальных. Я это понимала. Я видела это в зеркале по своим глазам, по так похожему на мать неприкрыто звериному, дерзкому взгляду. Можно призвать смерть всего лишь одной черной мыслью, говорила она, и в то лето все мои мысли были черные. Я верила ее словам. И пряталась, как раненый зверь; влезала на самую верхушку Наблюдательного Пункта, замирала, свернувшись калачиком, на деревянном настиле, ждала смерти. Живот ныл, как воспаленный зуб. Смерть не являлась. И я листала комиксы Кассиса, потом лежала, уставившись в яркое переплетенье листьев, пока не приходил сон.
12.Позже, выдавая мне чистую простыню, она объяснила. Без особого сострадания, если не считать оценивающего взгляда, который всегда у нее появлялся в моем присутствии: на бледном лице губы сжаты в ниточку, взгляд острый, колючий.