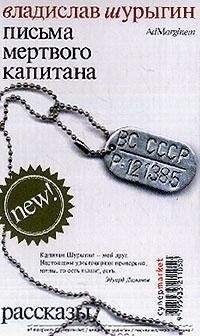Джоанн Харрис - Пять четвертинок апельсина
Иногда я пользовалась апельсинным мешочком просто из ненависти, втайне мстя за свои сны.
Я слышала, как она ходит по комнате наверху, порой разговаривая сама с собой. Банка с морфином была почти пуста. Однажды она запустила в стену чем-то тяжелым, и что-то разлетелось вдребезги. Потом мы обнаружили в мусоре обломки часов ее матери, корпус — в щепки, циферблат с трещиной посредине. Жалости это у меня не вызвало. Я бы сама их об стенку грохнула, если б посмела.
Однако в тот сентябрь два обстоятельства удержали меня от помешательства. Первое — охота за щукой. Воспользовавшись подсказкой Томаса о живой приманке, я поймала несколько штук — их тушки в ряд болтались на Стоячих Камнях, там все переливалось, багровело и жужжало от обилия мух, — и, хотя Матерая мне не давалась, я была уверена, что все ближе и ближе подбираюсь к ней. Мне казалось, что она непременно следит за мной и что с каждой моей пойманной щучкой нарастают в ней ярость и отчаяние. Я убеждала себя, что в конце концов жажда мести заставит ее объявиться. Не может же она бесконечно сносить набеги на свое племя. Сколько бы ни было в ней терпения и выдержки, все равно придет время, когда она уже не сможет себя сдержать. Она покажется, она выйдет на бой, и я ее поймаю. Не отступая от задуманного, я со все возраставшей изобретательностью вымещала свою ярость на мелких жертвах, используя остатки в качестве наживки для ловушек.
Вторым благим обстоятельством был Томас. Он появлялся у нас каждую неделю, если удавалось вырваться, почти всегда это приходилось на четверг, когда ему разрешалась отлучка. Он приезжал на мотоцикле, который вместе с военной формой прятал в кустах за Наблюдательным Пунктом, и часто привозил в свертке вещицы с черного рынка, предназначавшиеся для нас троих. Странно, но мы настолько привыкли к его приездам, что одного только его присутствия нам уже было достаточно, хотя мы это скрывали, каждый по-своему. При нем мы преображались. У Кассиса появлялся небрежный тон, он отчаянно стремился показать, какой он крутой: «Спорим, смогу переплыть Луару в самом быстром месте? Спорим, украду соты диких пчел из дупла?» Рен превращалась в пугливую кошечку, поглядывала на Томаса из-под ресниц, надув свои прелестные напомаженные губки. Я презирала Рен за ее кривлянье. Соперничать с сестрой в ее играх мне было не под силу, и я пошла по своему пути, задавшись целью переплюнуть Кассиса в его подвигах. Переплывала реку в более глубоких и опасных местах. Ныряя, оставалась под водой дольше его. Зависала на самых высоких ветвях Наблюдательного Пункта, а если и Кассис осмеливался на подобное, я, зная его тайную боязнь высоты, свисала вниз головой, хохоча и оглашая обезьяньими воплями тех, кто стоял внизу. С остриженными волосами я теперь была вылитый мальчишка, и вот уже в Кассисе начали проявляться первые признаки слабоволия, которое в нем разовьется с годами. Я оказалась жестче и крепче его. В своем малолетстве я еще не соображала, как он, что такое страх. Я с восторгом шла на опасный риск, только чтобы переплюнуть брата. Именно я придумала игру с корнями, ставшую нашим излюбленным развлечением, и без устали тренировалась, чтобы почти всегда выходить из нее победительницей.
Принцип игры был прост. Вдоль берегов Луары, теперь сузившейся после дождей, выпирало множество обнаженных древесных корней, добела промытых быстрым течением. Одни диаметром в девичий торс, другие — не толще пальца, они тянулись прямо под воду и часто врастали в желтый песок дна в метре от поверхности, образуя таким образом там во мраке древовидные петли. Целью игры было, нырнув, проплыть сквозь эти петли — иные предельно узкие, — резко сложившись пополам, туда и обратно. Если с первого раза в петлю в темноте не попадешь, или всплывешь, не проплыв через нее, или побоишься соваться, значит — вылетел. Выигрывает тот, кто сумеет проплыть сквозь большее число петель, ни одной не пропустив.
Игра опасная. Петли всегда образовывались на самых быстрых участках реки, где берег круто подмывался. В норах под корнями жили змеи, а если берег обрушится, не исключено, что можно попасть в ловушку под завалом. Внизу было темно, хоть глаз выколи, и приходилось среди корневых отростков пробиваться на ощупь, чтобы выбраться наружу. В любой момент кто-нибудь мог застрять там, вдавленный неистовым течением, пока не захлебнется, но в этом-то и состоял весь смак игры, вся ее привлекательность.
Я достигла в этой игре виртуозности. Рен участвовала редко и постоянно впадала в истерику, когда мы с Кассисом начинали выставляться друг перед дружкой, но брат на мой вызов не ответить не мог. Он пока еще был посильней меня, но я была тоньше, а спина у меня гибче. Я извивалась ужом, а Кассис — чем больше хвастал и рисовался, тем скованней двигался. Кажется, я ни разу ему не проиграла.
Мы встречались с Томасом вдвоем, только если Кассиса с Рен наказывали в школе за плохое поведение. Тогда по четвергам они должны были остаться, после того как все разъедутся, и сидеть за своими партами в зале для задержанных после уроков, спрягать глаголы или писать упражнения. Как правило, такое редко случалось, но тогда им приходилось несладко. Школа по-прежнему была оккупирована немцами. Учителей не хватало, в классах набиралось по пятьдесят-шестьдесят учеников. Нервы у учителей были на пределе; для наказания достаточно было ничтожного повода: необдуманное слово, неуд в контрольной, драка на школьном дворе, невыполненное задание. Я молила Бога, чтоб случилось что-нибудь подобное.
Но этот день был необыкновенный. Я помню его так же ясно, как некоторые сны, он ярче и отчетливей высвечен в памяти, идеально сфокусирован среди расплывчатых и мутных событий того лета. Впервые все выстроилось в четкой последовательности, и в первый раз я испытала невиданное умиротворение, чувство, что я в ладу с собой и с жизнью, что если захочу, этот изумительный день будет длиться вечно. Подобного я больше, пожалуй, никогда в жизни не испытывала; хотя, наверное, нечто сходное случалось у меня оба раза при рождении моих дочерей, ну и разве что разок-другой с Эрве, и еще, если когда что-то готовлю, все получается именно так, как хочется. Но в тот день это чувство было подлинное; живительный эликсир, на всю жизнь.
Накануне вечером матери нездоровилось. На сей раз я была ни при чем; апельсинный мешочек утратил силу, он столько раз за этот месяц нагревался, что кожура почернела, обуглилась, запах почти иссяк. Нет, у нее был обычный приступ головной боли, и через некоторое время она выпила таблетки и ушла в спальню, предоставив меня самой себе. Я встала рано и отправилась на реку до того, как проснулись Кассис с Рен. Стоял один из редких багряно-золотистых дней ранней осени, воздух был свежий, терпкий и кружил голову, как хмельное вино, и даже в пять утра небо было безоблачное, багрово-синее, какое бывает только в ясные осенние дни. В году, наверное, наберется дня три таких, и тот был один из них. Напевая, я просматривала свои ловушки, и мой голос дерзко несся вдоль мглистой Луары. Была грибная пора, и, отнеся на ферму свой улов и почистив рыбу, я, прихватив с собой хлеб и сыр, отправилась в лес по грибы. Я слыла отменным грибником. По правде говоря, и по сей день так, но в ту пору нюх у меня был как у выискивающего трюфели поросенка. Я носом чуяла грибы, желто-серую chanterelle[60] и медно-бурый, с абрикосовым запахом bolet,[61] и съедобный дождевик, и черный груздь, и серый. Мать вечно посылала нас к аптекарю, чтобы тот проверил, не набрали ли ядовитых, и я не промахивалась никогда. Безошибочно узнавала bolet по сочному запаху, а черный груздь по аромату сухой земли. Я знала места их обитания, их грибницы. Высматривала грибы с завидным терпением.