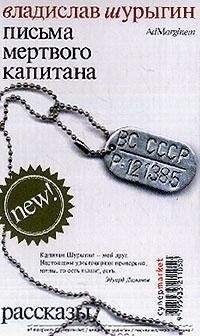Джоанн Харрис - Пять четвертинок апельсина
После разговора с Кассисом в нашем убежище на дереве я поняла, что у меня с Томасом все четко обозначилось. У нас были свои правила — не дурацкие, навязываемые нашей матерью, а простые, понятные и девятилетнему ребенку: всегда начеку; сам себе голова; равные возможности для всех. Мы трое уже столько времени слонялись беспризорниками, что для нас было неописуемым, хотя и тайным, счастьем появление нового наставника — взрослого, олицетворявшего собой порядок.
Помню, однажды мы втроем его ждали, а Томас опаздывал. Кассис по-прежнему звал его «Лейбниц», а мы с Рен уже давно звали по имени. В тот день Кассис был какой-то нервный и угрюмый, уединился, сидел на берегу, кидал в воду камни. Утром у них с матерью вышла шумная стычка по какому-то ничтожному поводу:
— Был бы жив отец, ты бы не посмел со мной так разговаривать!
— Был бы жив наш отец, он бы только тебя и слушал!
От ядовитого ее языка Кассис, как всегда, сбежал из дома. У него в хижине на дереве хранилась отцовская охотничья куртка, и он сидел нахохлившись, завернувшись в нее, как старый индеец в одеяло. Если Кассис в отцовской куртке — это не к добру, и мы с Рен его не трогали.
Вот так он и сидел у реки, когда пришел Томас.
Томас сразу все заметил и, не говоря ни слова, присел чуть поодаль на берегу, ниже по течению.
— С меня хватит! — наконец бросил Кассис, не глядя на Томаса. — Я уже не ребенок. Мне скоро четырнадцать. Хватит, наигрался.
Томас снял армейскую шинель, кинул Ренетт, чтоб пошарила по карманам. Я лежала на животе на берегу и следила за происходящим.
Кассис продолжал:
— Комиксы, шоколадки, всякая дребедень. Война идет. А тут фигня одна. — Он возбужденно поднялся. — Глупости. В игрушки играем. Отцу моему голову снесло, а тебе, чистоплюю, хоть бы хны.
— Ты так думаешь? — отозвался Томас.
— Я думаю, что ты грязный бош! — рубанул Кассис.
— А ну пойдем, — сказал Томас, вставая. — Девочкам оставаться здесь, ясно?
Рен крайне обрадовало, что можно сколько угодно листать глянцевые журналы, извлеченные из карманов шинели. Оставив ее за этим занятием, я незаметно, прячась в кустах, пригибаясь к мшистой земле, скользнула за Томасом и Кассисом. Их голоса, как пылинки света сквозь листву, просачивались ко мне издалека.
Слышно было неважно. Я притаилась под поваленным деревом, стараясь не дышать. Томас снял с плеча ружье и протянул Кассису.
— На-ка, возьми. Почувствуй, каково.
Судя по тому, как взял его Кассис, ружье было тяжелое. Он вскинул его, прицелился в немца. Томас и бровью не повел.
— Моего брата расстреляли как дезертира, — сказал он. — Он только окончил военное училище. Ему было девятнадцать. Он испугался. Он был пулеметчик; видно, ошалел от пулеметного стрекота. Это случилось в одной французской деревушке в самом начале войны. Я думаю, если бы я был рядом, смог бы ему помочь, как-то подбодрить, уберечь от беды. Но меня там не было.
— Ну и что? — Кассис с ненавистью смотрел на него. Томас как будто и не слыхал:
— Он был в семье любимчиком. Вечно Эрнсту доставалось вылизывать кастрюльки, когда мать готовила. Эрнста старались освободить от черной работы. Эрнст был гордостью родителей. А я… Я был работягой, считалось, что только и гожусь, чтоб выносить помои да кормить свиней. Только и всего.
Теперь Кассис слушал. Казалось, напряжение между ними накалилось до предела.
— Когда пришло извещение, я был дома на побывке. Принесли это письмо. Старались держать в тайне, но через полчаса в деревне уже все знали, что сынок Лейбница дезертир. Моих родителей это известие совершенно ошарашило; как молнией поразило.
Я решила под прикрытием упавшего дерева подползти поближе. Томас продолжал:
— Самое смешное, что у нас в семье именно меня всегда считали трусом. Я никогда не высовывался. На рожон не лез. Но с этого момента я стал героем в глазах моих родителей. Неожиданно я занял место Эрнста. Будто его и не было. Как будто я был у своих родителей единственный сын. Я стал для них всем.
— Это же ужас, что… — еле слышно прозвучал голос Кассиса.
Томас кивнул.
Кассис тяжело вздохнул, будто захлопнулась массивная дверь.
— Он не должен был умереть, — сказал брат. И я поняла, что это он о нашем отце. Томас стоял и, внешне невозмутимо, ждал.
— Ведь все знали, какой он умный. И владеть собой всегда умел. — Кассис взорвался: — Он был не трус! — и метнул взгляд на Томаса, будто уязвленный его молчанием.
Руки и голос брата дрожали. И вдруг он стал кричать, громко, мучительно, я едва разбирала слова, которые с безудержной яростью рвались из него вон:
— Он не должен был умереть! Он должен был жить, чтоб все стало ясней, чтоб все стало лучше. А вместо этого он ушел на войну и, как дурак, дал себя разорвать на куски! И вместо него остался я, и я… я… не знаю теперь… что делать и ка-а-ак…
Томас подождал, пока все кончится. Это длилось довольно долго. Потом он протянул руку и как ни в чем не бывало забрал у Кассиса ружье.
— Такова доля героев, — бросил он. — Они не успевают дожить до исполнения желаний, правда?
— Я мог тебя убить, — угрюмо буркнул Кассис.
— Противодействовать можно по-разному, — сказал Томас.
Почувствовав, что у них пошло на мировую, я стала потихоньку отходить сквозь кусты, чтоб они, когда обернутся, меня не заметили. Ренетт по-прежнему сидела на том же месте, погрузившись в разглядывание журнала «Cine-Mag». Минут через пять появились Томас с Кассисом, обнявшись, как братья. На Кассисе красовалась лихо надетая набекрень немецкая пилотка.
— Возьми себе, — предложил Томас. — Для меня не проблема вторую такую найти.
Наживка была заглочена. С этого момента Кассис стал его рабом.
9.Наше рвение угодить Томасу удвоилось.
Любое, самое ничтожное известие сносилось к нему в копилку. Мадам Энрио незаметно от всех на почте вскрыла какой-то пакет. В мясной лавке Жиль Пети продает кошачье мясо, а выдает за кроличье. В «La Mauvaise Réputation» Мартэн Дюпрэ в разговоре с Анри Друо поносил немцев. Говорят, на огороде за домом у Трюрианов под капканом припрятан радиоприемник. А Мартэн Франсэн и вовсе коммунист. И Томас наведывался к этим людям якобы, чтоб изъять продовольствие для солдат, а уносил с собой и кое-что еще — то полные карманы бумажных денег, то тряпки с черного рынка, то бутылку вина. Иногда жертвы поставляли ему дополнительную информацию: про чьего-то парижского родственника, которого прячут в погребе в центре Анже; про то, как на задворках кафе «Рыжий кот» кого-то пырнули ножом. К концу лета Томас Лейбниц знал половину тайн в Анже и две третьих — в Ле-Лавёз, а в казарме под матрасом у него уже скопилось приличное состояние. Он именовал это противодействием. Чему, уточнять не требовалось.