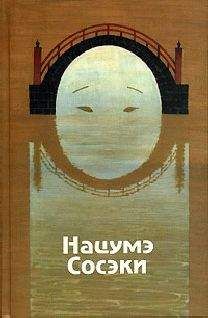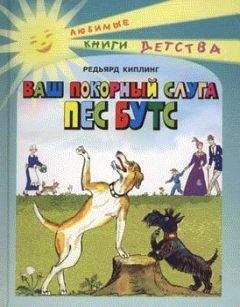Алекс Тарн - В поисках утраченного героя
— Заложница? — подсказала я.
Ольга изумленно взглянула на меня.
— Да! Как вы догадались? Папа употреблял именно это слово. Он говорил, что был очень рад за нее, когда ее мучения наконец кончились. Когда она вырвалась на свободу. Он говорил, что не хотел держать ее в залоге, что это было ему тяжелее всего, тяжелей расставания. Что пусть хоть она спасется — так он говорил.
— Как же она спаслась?
— Открылась такая возможность. Полугодовая стажировка в Англии. Думаю, родственники помогли и так далее. Мне тогда два года исполнилось. Отец настоял, чтобы она ехала, причем одна, чтобы ребенок не мешал. И она уехала… — получилось, что навсегда.
— И что же, с тех пор никакой связи?
— Ну что вы… — удивилась она. — Мать все-таки. Сначала она писала чуть ли не ежедневно. Присылала мне всякие картинки, игрушки, стишки. Потом все реже и реже. Потом вышла замуж, осталась в Англии. Преподает до сих пор. В Бирмингеме. Видите ли, там урду очень даже востребован. Мы с ней видимся время от времени. Я туда ездила после армии. Она сюда приезжает. Мать есть мать.
— А вы с отцом остались в заложниках…
— А мы остались. Мы были вместе, вот так, — она подняла вверх кулачок, сжатый до белых костяшек. — У меня был только он, у него — только я.
— А родственники? Неужели никто из них не предлагал, чтобы ребенок пожил в нормальных условиях?
— Ребенок и так жил в нормальных условиях, — почти сердито ответила Ольга. — Родственники предлагали, конечно. Видите ли, я жила у родственников довольно долго. Папа болел после Чернобыля, лежал в клиниках.
— Чернобыль? — переспросила я. — Как он попал в Чернобыль из Средней Азии?
— При чем тут это… — сказала она устало. — Туда почти сразу прислали стройбаты со всех округов. Эти умники поделили окрестность на сектора и приказали снимать почву в радиусе пятнадцати километров, потом тридцати. Как будто это могло помочь. Да и чушь полнейшая — не от радиуса заражение зависело, а от направления ветра. Многие облучились, причем зря, впустую. Папу комиссовали, он болел. Я вернулась к нему — помогать, и вообще. Мы не могли врозь. Мы были вместе, вот так.
Ольга спрятала лицо в ладонях. «Есть! Есть!» — донеслось снизу; одновременно взорвался победным скандированием телевизор. Я осторожно нарушила молчание.
— А сюда вы переехали…
— В девяносто первом. Как только смогли. Видите ли, папа ненавидел ту страну. Называл ее пыточным подвалом. Когда появилась возможность уехать, он просто летал как на крыльях. Мне тогда было восемь. Папа говорил: «Мы выходим на свободу, Оленька! На свободу!», — она печально покачала головой. — Но получилось иначе. Папин подвал никуда не делся, он приехал вместе с нами.
— Что вы имеете в виду?
— Видите ли, папа оказался поразительно неспособен к языкам. Он шутил, что во всем виновата его женитьба на филологе. Мол, Бог дает фиксированное количество языковых способностей на каждую отдельно взятую семью. И после мамы на его долю не осталось ничего, ни капелюшечки. Мама-то говорит почти на всех европейских языках и еще на десятке азиатских… — Ольга развела руками, словно извиняясь за божественную неосмотрительность. — А без языка — сами понимаете. Он работал как мог, делал ремонты. Пенсия шла небольшая — как чернобыльцу. Как-то жили. Но потом халтур совсем не стало, и он пошел сдаваться к Эфи Липштейну. Так и говорил: «пошел сдаваться».
— Но почему? Почему именно «сдаваться»? Хорошая работа, приличные деньги…
Она покачала головой.
— Дело не в деньгах. Дело в том, что он вернулся туда. Понимаете? Вернулся в подвал. Оказалось, что он не может без подвала, и это было очень унизительно.
— Да, понимаю, — сказала я. — Унизительно.
— Папа вообще не желал говорить по-русски. Ни слова. Знаете, многие русские семьи здесь рассуждают ровно наоборот: мол, полезно сохранить язык, научить детей… Мол, язык — это целый мир, зачем же обделять себя и так далее. Папа об этом и слышать не хочет. Он предпочитает молчать. С Меиром объясняется знаками. Меир ведь тоже к языкам неспособен. Так что в чем-то они с папой все-таки похожи.
— Ваша девочка…
— Тали? По-русски? — Ни слова не знает. Я и сама-то… Мы вот с вами на иврите говорим. Не уверена, что смогла бы вести подобную беседу на другом языке. Может, еще на английском, но много хуже. Отца это очень радует. Очень.
Мы еще немного помолчали, я поднялась и стала благодарить.
— Что вы, что вы, не за что, — отвечала Ольга. — Только найдите его поскорее.
Уже в дверях я спросила, когда он сменил имя и фамилию и почему. Ольга недоуменно наморщила лоб.
— Когда? — Сразу же по приезде, в аэропорту… Почему? — Неужели вы не поняли? Он не хочет быть Леонидом Йозефовичем. И никогда не хотел.
Когда мы с Борисом садились в машину, он мрачно сказал:
— Спасибо, что не так долго. Еще четверть часа, и я разбил бы этому Меиру башку. Столько баскетбола, семечек, пива и дурости в одном бокале…
Я рассмеялась.
— Да, мне тоже показалось, что зять Арье Йосефа должен выглядеть иначе. Вторая ошибка такого рода за день.
— А первая?
— Первая — твоя собачница Шломин. Честно говоря, я ожидала увидеть бомжиху, а не светскую даму.
— Это точно, — кивнул Боря, выруливая со стоянки. — Не зря Арье к ней клеился.
— Арье? — переспросила я. — Какой Арье? Наш Арье Йосеф?
Он бросил на меня удивленный взгляд.
— Разве ты не знаешь? Ах да, это ведь не попало в текст. В тот день, когда мы с тобой познакомились, по дороге в Иерусалим я взял на тремп сына Шломин Ави. И он рассказал, что Арье Йосеф ходил к ней в последнее время. Помогал с собаками и вроде бы… ну, понимаешь.
— Понимаю… Жаль, что ты не упоминал об этом раньше. А Шломин говорит по-русски?
Борис пожал плечами.
— Не знаю. Скорее всего, нет. Думаю, она только гавкает.
Мы вместе посмеялись его нехитрой шутке.
— Она, наверное, и пишет уже по-собачьи, — добавил Боря, развивая тему. — Находит кустик и…
— Подожди, — сказала я.
— Что?
— Подожди!
Недавно ускользнувшая ящерка-догадка вдруг вынырнула из придорожной темноты и во всей красе застыла передо мной. Теперь она никуда не спешила, и я могла с удобствами рассмотреть ее целиком, до мельчайших деталей. Для продолжения текста не требовалось другого автора. Требовался другой язык. Всего лишь другой язык.
17Утром Борис уехал в университет, а я пошла к старику Когану — понятия не имею, зачем. Может, потому, что обещала накануне. А может, ноги сами понесли. Но скорее всего, я просто не знала, что мне делать со своим вчерашним открытием. Ну ладно, другой язык. Так что теперь? Искать переводчика? Переводить самой? Или неприятие русского относится лишь к продолжению текста, а предыдущие части можно оставить как есть? Мучимая этими вопросами, я бесцельно слонялась из кухни в гостиную, пока не решила, что пора взять себя в руки. Лучшим лекарством от болтанки неопределенности является возвращение к якорю обыденности. Моей обыденностью в Эйяле был старик Коган.
Он явно не ожидал моего прихода и потому нескрываемо обрадовался, захлопотал, усадил, заметался, потирая руки:
— Так, Леночка… так… на чем мы, значит, вчера остановились?..
Но старые игры кончились. Я решительно не желала снова входить в то мерзкое болото, где старик Коган изволил остановиться вчера. Уж если я заявилась к нему сегодня, то вовсе не для того, чтобы и дальше плясать под его дудку. Если Коган гарантированно не имел отношения к продолжению текста, то не было и причины дорожить его благорасположением. Я могла встать и уйти в любое время, навсегда и без сожаления. Отчего бы не дать ему почувствовать это с первых же минут?
— Вот что, Эмиль Иосифович, — сказала я с максимальной категоричностью, на какую была способна. — Сегодня вы расскажете мне про Густава.
Он вытаращил глаза.
— Про… кого?..
— Про Густава, — повторила я. — Это единственный момент, который пока остается не проясненным. Понимаю ваше авторское стремление приберечь эффектную разгадку под конец. Но, знаете ли, терпение читателей тоже не беспредельно.
Старик Коган потряс головой, словно избавляясь от наваждения. Видно было, что я застала его врасплох.
— Что ж, Эмиль Иосифович, — я поднялась со своего места. — Если вы не готовы говорить об этом, я, пожалуй, пойду…
— Сядьте, — глухо проговорил он. — Вы правы, я не собирался говорить о Густаве… По крайней мере — на этом этапе. Но раз уж так сложилось… Мне нужно, чтобы вы поняли. Должно быть, вам уже известно, что Анна Петровна Гусарова, к которой я попал в шестилетнем возрасте после ареста родителей, категорически отрицала существование Густава…
Да, я помнила это из бориного текста. Более того, Гусарова заставила тогда и маленького Эмиля поверить в то, что у него никогда не было брата-близнеца. Но в разговоре с Борисом старик определенно намекал на что-то другое. Теперь он подтвердил это. По словам Когана, он не смел возражать тете Ане, но продолжал ощущать далекое присутствие брата — так, как могут чувствовать друг друга лишь близнецы, бывшие когда-то частью одного материнского тела.