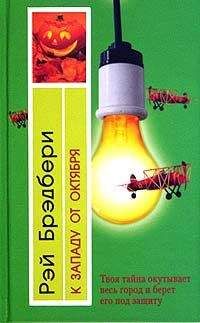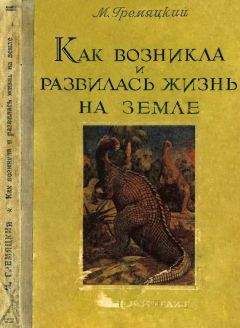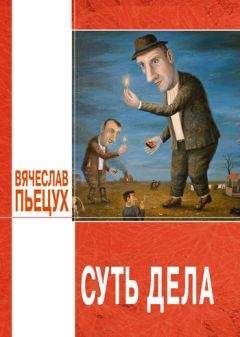Вячеслав Пьецух - Догадки (сборник)
Немудрено, что накануне 14 декабря Рылеев в отчаянье восклицал:
– Десять лет готовились к этому часу, а ничего не готово!
4Как только весть о кончине императора Александра достигла столицы, между членами тайного общества пошли бесконечные совещания, которые начинались за «русскими завтраками» у Рылеева в доме Русско-американской компании у Синего моста, в подворотню налево, где сейчас расположился ломбард, и велись под дворянскую водку, ржаной хлеб и квашеную капусту; затем совещания распространялись по Петербургу, а к вечеру большей частью опять сосредоточивались у Рылеева.
Все сходились в том мнении, что более удобного случая для переворота выдумать невозможно: Николай присягнул цесаревичу Константину, Константин царствовать не желал, великий князь Михаил Павлович сиднем сидел в Кеннале, военный губернатор граф Милорадович по-прежнему занимался главным образом девушками из балета, и никто ничего не знал; то есть наверху творилась такая неразбериха, что, действительно, более удобного случая выдумать было трудно.
В результате бурных и продолжительных толков в конце концов выработался следующий план выступления: в день присяги революционные войска стягиваются к Сенату, чтобы помешать сенаторам присягнуть и заставить их издать от своего имени манифест об упразднении самовластья; тем временем захватывается Зимний дворец, а все члены царской семьи, за исключением императора Николая, который должен быть умерщвлен, берутся под караул; на случай поражения в двух первых пунктах войска занимают Петропавловскую твердыню, где можно отсидеться, ожидая подмоги со стороны; затем полки выводятся из столицы, вожди революции принципиально отходят от дел, а власть берет в свои руки Временное правительство, немедленно созывающее учредительное собрание из выборных представителей всех губерний, которое и должно будет решить политическое будущее России; на случай поражения во всех пунктах положили отступать к новгородским воинским поселениям, а если отрежут и этот путь, то идти в глубь страны, объявляя «вольность» крестьянам и, таким образом, призывая народ к традиционному топору. Распределены были и роли: Трубецкой – диктатор, Оболенский – начальник штаба, Рылеев с Пущиным склоняют сенаторов к изданию революционного манифеста, который, между прочим, был дописан только утром 14 декабря, Каховский с Якубовичем расправляются с Николаем, все прочие члены тайного общества бунтуют войска под предлогом незаконной переприсяги. Тем не менее в этих планах было столько неопределенности и прорех, что далеко не все прояснилось даже на последнем совещании у Рылеева, которое закончилось за полночь 13 числа.
Весь вечер в рылеевской квартире у Синего моста, где собралась санкт-петербургская отрасль тайного общества, стоял восторженный, нервный гам. Было так накурено и надышано, что в канделябрах трещали свечи.
– Следует обсудить еще один коренной вопрос, – говорил князь Оболенский неестественно громким голосом, чтобы перекрыть шум. – Имеем ли мы право, как честные люди, составляющие едва заметную единицу в огромном большинстве населения нашего отечества, предпринимать государственный переворот и свой образ воззрения на общественное устройство налагать почти насильно на тех, которые, может быть, довольствуются настоящим и не ищут лучшего?
– Ну вот! – восклицал на это Каховский. – Только-только условились обо всем, а вы на попятный двор!
– Идеи не подлежат законам большинства или меньшинства, – сказал Рылеев и надолго закашлялся, так как был не совсем здоров. – И вот вам доказательство: народное большинство только в той мере влияет на течение истории, в какой его к этому побуждает мыслящее меньшинство; таким образом, в теперешний момент народ – это мы!
– Однако кровью за наш образ воззрения завтра будет расплачиваться народное большинство, – заметил князь Оболенский, несколько кривя свое маленькое лицо, отмеченное мучительно-кроткой миной нечаянного убийцы[49].
– Отчего же?! – сказал Рылеев и поправил на шее матерчатую повязку. – Что касается меня, то я первый встану в ряды солдат с ружьем в руках и сумою через плечо.
– Как, во фраке?! – с насмешкой спросил Николай Бестужев.
– А почему бы и нет? Впрочем, может быть, надену русский кафтан, чтобы сроднить солдата с поселянином в первом действии их взаимной свободы.
– Я тебе этого не советую: как бы прикладом по нечаянности не досталось. Русский солдат не понимает всех этих патриотических тонкостей.
– Уже поздно, господа, – сказал Михаил Пущин, который прогуливался по гостиной, попыхивая фарфоровой трубкой. – Не пора ли нам расходиться? Завтра уж что Бог даст: или грудь, в крестах, или голова в кустах.
В эту минуту из соседней комнаты донеслись горячие возгласы Якубовича.
– О чем это он? – недовольно спросил Рылеев.
– Об обязанностях дежурного офицера, наряженного на отдельный пост, – ответил Батеньков, симпатичный очкарик, и снисходительно улыбнулся.
Легок на помине, в гостиную заглянул Якубович, поправил черную бархатную ленту на голове, прикрывавшую шрам, и сказал:
– Я считаю, господа, что кроме обольщения нижних чинов хорошо было бы взять и другие меры. Предлагаю завтра разбивать кабаки и поить народ. Неплохо было бы также приударить в барабаны.
– Это еще зачем? – послышался дальний голос.
– Для оповещения публики.
– Да вы в своем уме, милостивый государь?! – сказал барон Штейнгель, выкатывая над очками разгневанные глаза. – Понимаете ли вы, к чему могут привести сии неистовые меры?! В Москве девяносто тысяч дворовых, готовых взяться за ножи; пожалейте хотя бы наших бабушек и тетушек, несносный вы человек!
– Действительно, господа, – согласился Батеньков, – восторг умов приобретает уж прямо злодейское направление.
– Поостерегитесь в выражениях, сударь, – проговорил Якубович на лютой ноте. – А то ведь у нас, у кавказцев[50], так: раз-два – и пожалуйте стреляться через платок.
– Ах, оставьте, господа! – сказал моряк Торсон. – До этого ли теперь?!
– У меня также имеется предложение! – воскликнул Щепин-Ростовский, круглолицый детина с замечательными усами, один из которых совершенно поседел на третий день заключения в Петропавловской крепости. – Не нужно никаких обольщений, барабанов и кабаков. Дайте мне веревку! Я завтра Николая Павловича под рылеевские окна на веревке приволоку!
– А это еще кто такой? – послышался тихий голос.
– Почем я знаю, – отозвался ему другой.
– Как хотите, а я весь сомнение, господа, – сказал сквозь шум Репин, милый блондин с коротенькими усами. – Принимая в уважение двусмысленность наших планов и малочисленность наших сил, может быть, нам вовсе не выступать?
– Поздно, милостивый государь! – сказал Николай Бестужев. – Подлец Ростовцев уведомил правительство обо всем. Лучше быть взятым на площади, чем в постели.
– Ростовцев не подлец, – заметил князь Оболенский, – он несчастный.
– Оставим это, господа, – сказал князь Трубецкой, напустив на свое странно-удлиненное лицо диктаторское выражение, и посмотрел на брегет. – До выступления остаются считанные часы. Давайте рассудим, какими силами мы можем реально располагать.
– Тысяча штыков, а может быть, шесть тысяч, – назвал Рылеев.
– Вот это мило! – ядовито сказал Якубович. – Через несколько часов отправляться на площадь, а еще толком ничего не известно!
– В теперешнем случае участь предприятия будет решать отнюдь не число партизан нашей идеи, – вступил в разговор Каховский, который минуту тому назад печально глядел в окно. – Если нам суждено победить, то для успеха будет достаточно одного точного выстрела, а если не суждено, то и вся гвардия не спасет.
– Полагаю, что в любом случае преимущество будет на нашей стороне, – заявил Рылеев, нездорово блеснув своими большими ореховыми глазами, – ибо гражданин, вооруженный любовью к несчастному отечеству нашему, один стоит дюжины гренадеров! А коли ничего не удастся – ну что ж… Поступим прилично званию честного человека: погибнем за будущее России!
– Это, конечно, почтенные чувства, – сказал Трубецкой, пошевеливая бровями, – однако же следует все расчесть. Поэтому я и спрашиваю: какими силами мы можем реально располагать?
– Тысяча штыков, а может быть, шесть тысяч, – назвал Рылеев.
Но наутро удалось поднять и не тысячу штыков, и не шесть тысяч, и вообще план восстания во всех его пунктах оказался неосуществлен, что многие еще предчувствовали накануне, недаром Александр Одоевский с упоением восклицал:
– Ах, как мы погибнем, как славно мы погибнем!
Надо полагать, наиболее дальновидные из вождей грядущего мятежа не только предчувствовали, но и предвидели неуспех, так как, помимо методической неподготовленности выступления, было еще очевидно то, что завтра на Сенатскую площадь выйдет главным образом дюжинный боец, то есть в российской вариации боец по-своему беззаветный, но несамодеятельный, сомневающийся, добродушный, нервно-горячий, безначальный и одновременно началолюбивый, а это не самый надежный инструмент для политических переворотов. Однако отступать было некуда: слишком гнетущим было чувство личной ответственности перед отечественной историей, почему-то малознакомое современному человеку, слишком много решительных шагов было сделано до порога 14 декабря, чтобы не отважиться на последний. Это как раз понятно.