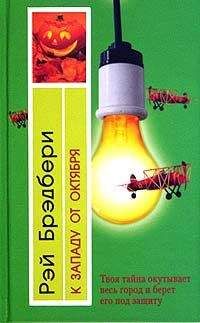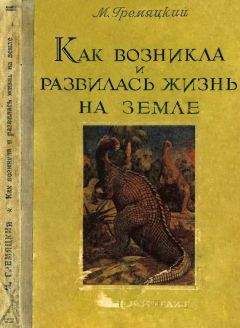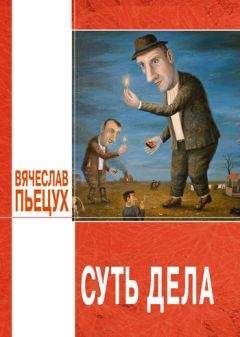Вячеслав Пьецух - Догадки (сборник)
Как известно, первые тайные общества европействующей молодежи образовались у нас вскоре после окончания заграничного похода, увенчавшего разгром наполеоновского нашествия. Дело это было новое для России, если не считать предтечи тайного масонства просветителя Новикова, но прямо закономерное в связи с тем, что феномен клина в сердце представлял собой готовую политическую платформу, что тогдашний режим предполагал сугубую потаенность всякого самостоятельного движения вплоть до самых безвредных для государства, вроде плотской деятельности общества «Братьев-свиней», предвозвестившего сексуальную революцию, или «Тайного общества кавалеров пробки», что недовольство правительством было тогда в России почти всеобщим и его костили даже члены царской фамилии, а такое единодушие неизбежно должно было обернуться если не явным противодействием режиму, то, во всяком случае, оформленной оппозицией. Первый тогдашний российский соглядатай фон Фок доносил об этом времени: «Никогда не видывано прежде подобных явлений, чтобы столько умных людей, собравшихся вместе и согрев головы вином, не говорили бы, по крайней мере, двусмысленно о правительстве».
Между прочим, основанием для этого доноса мог послужить обед у третьестепенного литератора Ореста Сомова на набережной Мойки, во флигельке, за которым велось аккуратное наблюдение. Как-то раз у Сомова собрались: Михаил Орлов, молодой генерал-майор и австрийский барон, князь Павел Долгоруков, Михаил Лунин, отставной кавалергард, двое братьев Муравьевых, Никита и Александр. После обеда, состоявшего из множества перемен, за которым поднимались исключительно гастрономические темы, когда уже были поданы трубки с костяными мундштуками в человеческий рост, в преддверии кофе, беседа приняла политическое направление.
– Кажется, господа, пришли последние времена, – начал Александр Муравьев, совсем еще юноша. – Ржаная мука вздорожала до пяти рублей с полтиной ассигнациями за куль, на юге свирепствует холера…
– Холера – патриотическая болезнь, – вставил князь Долгоруков.
Тем временем хозяин, взяв в руки гитару, забрался с ногами на ковровый турецкий диван и принялся напевать уланский романс, сочиненный поручиком Сементовским:
Кто ж твоя милая,
Княжна али графиня,
Простая ли дворянка,
Фрейлина ль какая?
Дай снесу поклончик…
– Ну хорошо, – продолжал Александр Муравьев, – а ни с чем не сообразные сроки армейской службы для нижних чинов, а повальное пьянство?…
– Это, положим, не один только русский народ почитает Бахуса, – перебил его брат Никита. – Разница в том, что пьяный француз шумит, а не дерется.
– А мздоимство чиновников, а казнокрадство?!
– Истинные слова! – сказал Михаил Лунин. – Что есть Россия в ее теперешнем состоянии? Царство грабежа и благонамеренности.
– Я уже не говорю о том, что в наш положительный век это просто страм иметь крепостных и допускать телесные наказания.
– Русского побей – часы сделает! – сказал Долгоруков и несколько раз с усилием пыхнул в трубку, окутав себя сиреневыми клубами.
Где-то поблизости затренькали ко всенощной колокола; на дворе было залаяла собака, но поперхнулась и замолчала.
Сомов завел новый романс, который начинался словами: «Ну что ж, сударь, тогда и жить не стоит».
– Как хотите, князь, – продолжал Александр Муравьев, – а несообразности нашего государственного устройства – il est plus que de toute evidence[45]. Недаром отовсюду слышится внутренний ропот противу правительства.
– Коли так, – сказал князь, – то, уповательно, в обществе проходу не было бы от революционистов, а между тем в России нет ни одного, даже самого миньятюрного, заговора.
– Как знать, – со значением проговорил Михаил Орлов.
– Во всяком случае, – сказал Александр Муравьев, – есть люди, которые мало того что не признают законным наше правительство, но прямо считают его враждебным своему народу, а потому действия против него полагают законными и глядят на них как на обязанность для каждого честного патриота, как если бы ему случилось действовать противу неприятеля, силою или хитростью вторгшегося в страну. И верьте мне, князь, настанет тот час, когда от Перми до Тавриды…
– Господи, как же мне надоели эти наши географические фанфаронады! – перебил его брат Никита. – «От Перми до Тавриды, от Березова до Дербента!..» Да что же тут хорошего, чему радоваться и чем хвастаться, ежели у нас от мысли до мысли пять тысяч верст?!
– Именно так, господа! – сказал Михаил Орлов и в сердцах ударил по подоконнику кулаком. – Скоро настанет тот час, когда от Перми до Тавриды слеза рабства иссохнет на ланитах, украшенных улыбкою вольности!
– Пестель предлагает наперед енциклопедию написать, – язвительно вставил Лунин.
– Удивляюсь я на наше общество, господа, – сказал князь Долгоруков. – Только соберутся вместе три человека, так давай едко разбирать вопросы государственного управления, гераклитствовать да в хвост и гриву метать перуны. И штатские чиновники у них подлецы, и помещики разбойники, и генералы скоты большей частью – один класс землепашцев почтенный!.. А между тем это просто глупый бородатый народ, и более ничего. Послушайтесь меня, господа: эти тексты до добра не доведут!
– Что правда, то правда, – весело сказал Лунин. – В России два проводника: язык – до Киева, перо – до Шлиссельбурга.
– Однако есть люди, которые не только козируют[46], но и действуют сообразно правилам истинного патриотизма, – сказал Александр Муравьев и в задумчивости поглядел на стену, где чернилами было написано заклинание от клопов: «Святого великомученика Дионисия Ареопагита!!!»
– Что же это за правила? – спросил его Орест Сомов, откладывая гитару.
Александр Муравьев собрался было ответить, но тут вошел в комнату сомовский человек Ферапонт, который принес послеобеденный кофе.
– Экий ты, братец, свинтус! – сказал ему Михаил Орлов, отхлебнув из серебряного наперстка. – Совсем кофе подал холодный…
– Между прочим, господа, – заметил Михаил Лунин, – кофе нонче тянет на одиннадцать рублей ассигнациями!..
– Что за правила, спрашиваете вы, – сказал Александр Муравьев. – А такие правила, что их можно выразить одним словом: пронунциаменто![47]
Видимо, Долгорукова это признание напугало, так как после некоторой паузы он сказал Орлову, явно норовя переменить направление разговора:
– Что-то вы грустны, генерал. Наверное, влюблены.
– Влюблен.
– И в кого же?
– В представительное правление.
– А по-моему, господа, – сказал Орест Сомов, – Россию осчастливят не заговорщики, а поэты, которые своим благотворным словом взлелеют в обществе побеги вольности, равенства и христианского братолюбия.
– Ну, это вы уж, сударь, загнули! – сказал князь Долгоруков. – Поэт – то же самое, что петух, то есть охотник петь и до кур.
– Не скажите, – возразил Александр Муравьев. – Бывают умные, вольнодумствующие поэты…
– Это точно, – вставил Михаил Лунин. – Если умен по-настоящему, то обязательно вольнодумец.
– Возьмите хотя бы Пушкина; пущай он и вертопрах, но его стихи – это прямая укоризна для тирании, и, стало быть, он действует в смысле упразднения самовластья.
– Пушкин? – сказал князь Долгоруков. – Метроман-с!
– Нет, господа, тут стишками не обойтись, – заявил Орлов. – Истинным патриотам отечества надлежит брать самые решительные меры – вплоть до физического устранения царствующей династии.
– Царица небесная! – выдохнул Долгоруков. – Как у вас, генерал, только язык поворачивается произносить такие каторжные слова?! Увольте меня, господа, от этаких разговоров, через них как раз угодишь в Сибирь.
Князь уже было оперся о подлокотники своего кресла, чтобы идти в переднюю одеваться, но потом посмотрел в окошко и передумал.
Несколько раз протявкали металлическим голосом каминные часы, изображавшие мопса.
– По крайней мере, – заговорил Александр Муравьев, – хорошо было бы распустить в обществе моду на простонародные правила и привычки: трудиться, вставать с первыми петухами, пить простое вино, вообще потреблять кушанья подлого класса…
– И вот еще что, – сказал его брат Никита, – на вечерах надобно нарочно не танцевать. Пускай его танцуют ветреники да франты, которым дела нет до общественных бедствий, а мы будем молча их осуждать и тем самым распускать критическое настроение.
В этом роде собрание беседовало еще некоторое время, а ближе к вечеру начало расходиться. Князь Долгоруков отправился завиваться к Гелио, лучшему петербургскому парикмахеру, бравшему пятерку за куафюру, а младший Муравьев, Орлов и Лунин поехали догуливать у Дюме. Никита Муравьев, уходивший последним, сказал Сомову на прощанье:
– Видя твой образ мыслей, говорю откровенно: я предлагаю тебе взойти в тайное общество.