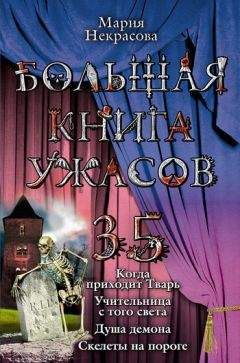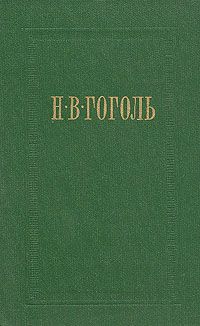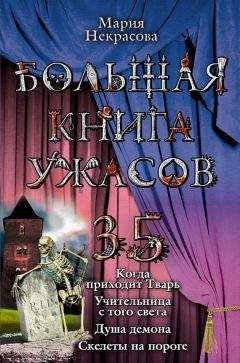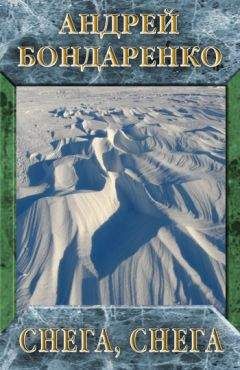Василь Ткачев - Дом коммуны
— Он и теперь живет, — перебил Генка, к бороде которого приклеилась еще спозаранку использованная спичка и теперь трепетала от дыхания, когда он шамкал беззубым ртом. — Пусть кто тронет Ильича, то голову свернем. Говори, Володька, дальше. На тебя государство деньги тратило — отрабатывай. Не сачкуй.
Володька подождал, пока выговорится Генка, с ним он знаком давно — было дело, даже брал у него интервью, когда тот приехал на комсомольскую стройку из Чувашии и строил «Сельмаш», ему дали, кажется, всесоюзную премию Ленинского комсомола, гремел человек, а тогда продолжил:
— Согласны с Генкой? Согласны. Хвалю, что понимаете нашу политику. Жить в Доме коммуны и не понимать ее — непростительно, братцы. Позор. Если бы не этот дом, где б мы приютились? Однако в последнее время на нас делают наглый наезд местные капиталисты, разные проходимцы, прощелыги, которые нахватались народных денежек и теперь вьют себе гнезда вот здесь, где мы собрались за праздничным столом, а нас оттирают, оттирают постепенно, и может получиться так, что и совсем нас выживут. Представляете? И я предлагаю не за них выпить... Вот им! —Володька ткнул в ту сторону, где делается евроремонт, кукиш, это сделали и все остальные. —Благодарю за поддержку и понимание. Предлагаю выпить за революцию! Подняли, что у кого есть. С праздником!
Молча выпили, потом закусывали. Развязались языки, и Володька обратил внимание, что женщина, которая до этого всячески прятала от него свое лицо, поднялась с кирпичей, на которых сидела, и пошла с Генкой, держа того за руку. Инженер Петрович догадался, что это заинтересовало Володьку, шепнул тому на ухо:
— Они с Генкой спелись, он ее бережет, никого не подпускает. «Моя!» Раньше они напротив жили, в подвале ДК железнодорожников. Оттуда попросили.
Что говорил он дальше, Володька не слышал. Не доходили до него те слова, отлетали, словно горох от стенки. «Наташка? Неужели — она?» Сразу вспомнилась командировка в Друцк, гостиница, райкомовские апартаменты, где они провели не одну ночь... Поэтому, понятно теперь, и прячет лицо. Конечно же, она узнала его сразу, когда и появилась здесь, в Доме коммуны. И Володька не выдержал, подчиняясь какой-то пружине, которая толкнула его, бросился трусцой следом за ней и Генкой, споткнулся, поднялся, и бежал, бежал, бежал... А куда? Куда надо бежать? В какую сторону? Наверх или, наоборот, в подвал?.. Здесь много таких комнат, где они могут найти для себя пристанище для короткой любовной страсти. Однако какая-то все же интуиция у него была, и он вскоре оказался там, где и надо. В проеме двери остановился, и то, что увидел, заставило его отвести глаза, сжать кулаки и замолотить ими по шершавой кирпичной стене, не обращая внимания на боль... Володька плюнул и вернулся к праздничному столу. Когда он подходил, все молча повернулись к нему.
— Есть у нас еще что выпить? — спросил Володька и сел на свои кирпичи.
Ему ответили: если бы! Но Володьке, откровенно говоря, не хотелось больше ни есть, ни пить. Прилег. И когда смотрел на ночной город, то увидел в своем большом дырявом окне окно Хоменка. Оно светилось жизнью, и Володька, наверное, впервые пожалел, что нет такого окна у самого.
Рядом примостился, перед этим долго копошился, будто зашивался в теплоту и уют, афганец Ефрейтор. Как звать его по имени, Володька не знал. Похоже, был ефрейтором в армии. Больше удивляло его, что признался. Это если б имел звание — другое дело, можно и похвастаться. А тут — ефрейтор, и нате вам!..
— Спишь? — спросил, устроившись, наконец, Ефрейтор.
— Думаю.
— Думай не думай, а ночи теперь холодные: надо искать местечко потеплее.
И вскоре тот захрапел. Этого еще не хватало. Володька швырнул в него камушком: подействовало. Хотя понимал, что ненадолго. Но все же... В этой жизни, оказывается, все когда-нибудь начинается и заканчивается. Как и сама, кстати, жизнь. Эх, если б опять ее начать! Володька думал об этом, и твердо верил, что жил бы не так, хотя и не до конца знал — как. Но не так. Это точно. Купил, называется, легковую машину. Мечтать не вредно, никому не запрещено. Хоменок тогда не зря усмехнулся, посчитал, конечно же, его чудиком. Хоменок — мудрый, хороший человек. К своему окну почти не подходит. Нет, видимо, сил. Выбился. Если бы не сын, то заглянул бы, но тот же, идиот уссурийский, когда бывает на взводе, пускает в ход кулаки, то можно опять нарваться на синяк под глазом. Поносил уже раз, хватит. Зверь, а не человек. Пожил в тайге, тогда конечно... Уссурийский тигр, не иначе. Правду же говорят: с кем поведешься, от того и наберешься. Ну его, однако!..
Опять бросил камушком в Ефрейтора, тот что-то проворчал во сне и замолчал.
Володька жалеет Ефрейтора. Мог бы греть бока где-то в Лос-Анджелесе, но не оторвался от своей земли, сильное у нее притяжение, оказывается. Если верить ему, то Ефрейтор будто бы детдомовец, когда служил в Афганистане, то ему не донесли одно письмо от любимой девушки Тани, и он обиделся, не написал больше ей. Переписка прервалась, как рвется паутина на ветру. А вернувшись, узнал, что девушка уже выскочила замуж: отомстила, получается, ему. Он бросил город, уехал в деревню, работал там на ферме, и вдруг письмо от бывшей любимой — просит приехать в Боровляны, попрощаться: умирает. То была встреча со слезами на глазах, и вспоминать про нее не хочется. Приехал, а Танька лежит на кровати... одна тень от нее осталась. Рядом с ней сидит на стульчике красивая девочка. Это, говорит, твоя дочь... А я же от тебя забеременела, дескать, а когда ты не ответил, вышла замуж за нелюбимого человека, долго с ним не пожила... все время думала о тебе.... Присмотри нашу дочь... Ефрейтор будто бы обнял тогда дочь, а сам заплакал... С ней и стал жить в городе, в общежитии, а потом она вышла замуж за американца, старше, правда, тот ее намного, но зато непьющий и не курит без фильтра. Хозяйственник. Свое дело имеет в бизнесе. Повезло дочери, и вот она решила забрать отца к себе. «Подметал бы там где-нибудь, — говорил, хлюпая носом, Ефрейтор. — Хоть там, говорит дочь, и так чисто. Без меня». Он долго рассказывал о том, что дочь его до конца не знала, хоть выпивал и при ней, но держался из последних сил, а как только остался один, совсем сошел с рельсов. Если бы она знала, что он таким стал, то не передала б ему доллары на билет, а передала бы сразу билет. А она, мало того, что на билет, так еще и на костюм новый, на шляпу, на туфли и сорочку подкинула долларов. Через людей. Да и у тех разве же глаз не было, когда передавали доллары? Сунули ему в руки — и делай что хочешь. По-американски поступили. А он все это и ухайдакал. До цента. Стоило только раз угостить друзей, показать купюры. И — приехали, гудбай, Америка! Еще, чудак, и комнату в общежитии сдал, желающих занять ее нашлось много, а когда Ефрейтор вернулся и хотел опять вселиться, то ему показали от ворот поворот. Не помогло, что и в Афгане был. А чтобы сходить куда следовало бы, попробовать добиться правды, так на это нет времени. Да и совестно: одежда вся сплошь из баков с мусором, хотя, приведи ее в порядок, то можно было и шиковать — по его меркам если брать. Гуманитарку, которую повесил сушиться на проволоке в соседней комнате, кто-то своровал. Ефрейтор смирился со всем, что случилось, и только, наверное, во сне теперь видит тот Лос-Анджелес.
Володька поклялся написать обо всей оказии с отцом дочери, но они не могут раздобыть пока адрес: тот конверт, на коем был адрес, ефрейтор потерял где-то вместе со всеми документами при невыясненных обстоятельствах.
Частенько, хмельные, они мечтали о том счастливом дне, когда вместе поедут в Америку. Ефрейтор бил тогда себя в грудь:
— Ты не знаешь мою дочь! Она не прогонит! Никогда! А зять, Джордж, еще лучше! Едем, Володька, и концы в воду! Ну его к чертям, этот Дом коммуны! Пусть в нем кто хочет живет! А мы знаем места и получше!.. Так ты едешь, Владимир?
— Еще и спрашиваешь! — бодрился Володька. — Еврей заварки не жалеет! Когда?
— А это мы подумаем.
Ну, а проспавшись, даже не вспоминали ни Лос-Анджелес, ни дочь, ни хорошего зятя Джорджа. Надвигались другие заботы, и они, словно какие-то жуки, расползались из Дома коммуны в разные стороны — кто куда, чтобы найти где-то кусок хлеба и обязательно разжиться на выпивку, ведь, когда ничего не выпьешь, считай, пропал день. До Володьки здесь каждый выживал сам, как мог. А он вдохновил их на коллективный труд, припомнив, где они живут, и потому всё, что раздобудут, волокут теперь сюда. Здесь сортируют бутылки, картон, бумагу, мануфактуру, и наиболее надежные и проверенные относят все это на приемные пункты. Для подстраховки иногда выходят следом за ними Володька и Ефрейтор. Деньги могут отнять жильцы из других подвалов, а этого допустить нельзя. Раз уступишь, второй — и тогда умрешь с голоду, не выживешь. Когда Володька работал на базаре, то он что-то ухитрялся принести оттуда. Но тачки не пропивал, нет, это Вартан напраслину на него возводит. «Чтобы я да подвел своего хозяина?» Нет, Володька не мог загнать тачку, это факт. И когда он оправдывался перед всеми, ему верили. Здесь, в доме, все помнят, как он притянул откуда-то два мешка гуманитарки — задействовал, конечно же, свои старые связи. Всех одел с ног до головы. Хоть на подиум. Забраковал только два френча, которые успели уже натянуть на себя Ефрейтор и Генка — уж больно похожи были они в них на немецких солдат из военной кинохроники. Нет, заявил строго, это там недоглядели, а они нам и подсунули, я должен исправить положение... и приказал закинуть френчи, куда те сами хотят. Будто бы отдали своим старым знакомым в ДК железнодорожников.