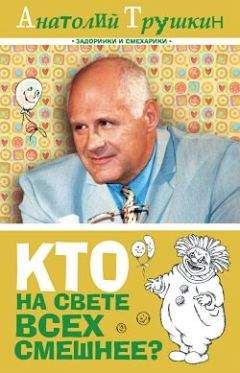Журнал «Новый мир» - Новый Мир. № 3, 2000
13 мая. [Коржавин — мысли об отъезде.]
— Поэзия кончилась. Процесса нет ни в поэзии, ни в прозе. Мне один способный писатель говорил — «не могу писать, не чувствуя потенциала» — не заряжает.
15 мая…И во всех личных архивах — филологов, искусствоведов, историков — были конспекты работ Сталина и следы натужного их осмысления, на которое уходили драгоценные соки мозга.
29 мая. Из неопубликованного дневника Фурманова:
«Спецы — полезный народ, но в то же время народ опасный и препотешный. Это какое-то особое племя — совершенно особое, ни на кого не похожее. Это могикане. Больше таких Россия не наживет: их растила нагайка, безделье и паркет».
Его «потешает», что они величают друг друга по имени-отчеству. «Прений, как мы их привыкли понимать: жаркого отстаивания своих взглядов — у спецов, собственно, нет…» (21 авг. 21 г.; ГБЛ, ф. 320, VII. 4).
5 июня, в дневном поезде на Ленинград.
— Я десять лет работал, и я знаю свою экспрессивность. Для меня имеет смысл направленная работа.
Я не йог. Йога можно закопать и через неделю выкопать — и он будет живой. А меня закопать, а потом выкопать — хер я буду живой. Это большая разница — йог и я.
Инженеры — что-то в связи с Байкалом.
10 — 11 июня. Шамкающая старуха в ватнике в магазине на Охте:
— Я тут в блокаду жила. Все померли, одна я не сдохла. Ты, я вижу, баба-то богатая, вон в сумке-то картошку молодую ташшишь! — И немолодая женщина вдруг с улыбкой повернулась на забытую деревенскую речь.
13 июня, в дневном поезде Ленинград — Москва.
Ах, сколько-сколько смотришь на тебя, страна рабов (и даже уже не господ, потому что давно уже и эти и те господа — сами рабы), а не насмотришься. И в пасмурность хороша, но уж когда солнце заиграет на стволах сосен…
22 июня. Какая же вера была в незыблемость сегодняшнего момента, этой минуты — вера, заставившая отлить в металл — девушку с ружьем, двумя пальцами оттягивающую на груди блузку и демонстрирующую значок ГТО!
Скульптура уравнена была с плакатом, прикнопленным на стене и относящимся к кампании этого месяца.
3 июля. Одно из многочисленных замечаний редактора (либерального) на полях рукописи моего обзора архива М. А. Булгакова — там, где описываются генеральные репетиции «Дней Турбиных» и заседания Главреперткома: «Конечно, историю нужно воспроизводить правдиво, и все это, видимо, правда, но здесь советская действительность предстает в очень невыгодном свете, что и заставляет сомневаться в надобности восстановления всех этих перипетий здесь и других аналогичных».
13 июля. Сидя за накрытым столом с бывшими одноклассниками, дипломат Сашка Бородий разъяснял международное положение привычными словами, приноровленными к детскому восприятию:
— Сейчас они как-то ближе стали к нам, уже стали интересоваться нашей жизнью… Уже не пишут о нас плохо… У них, знаете, демонстрации на улицах — никто их не заставляет, сами выходят, выносят плакаты…
И возбужденная улыбка идиота не сходила с его уст во время всего рассказа. Это и был нужный человек — не только не способный к оценке, производимой силой разума, но и не представляющий себе, что это такое.
4 сентября. За столом, за бумагами, от неожиданно удобной позы, когда свежее веянье из окна достигало лица и не дуло в спину и ноги, охватывал вдруг подъем чувств, возбуждение мысли, и на миг разрывалась пелена будущего — царство духа, свободно парящего разума сверкало там, впереди.
17 сентября. Прошел навстречу по бывшей Моховой мимо Пашкова дома высокий старик с бородой, в длинном, до пят, пальто, с непокрытой головой. Боже, как редки теперь такие встречи! Помню еще того, кто громко кричал на эскалаторе про Грядущего хама. Всех, всех извели дотла. А ведь они могли еще часто встречаться на улицах.
9 октября…Открылась вдруг кладовая исторического опыта — уже, оказывается, накопившегося. Явились вдруг наружу завершившиеся человеческие судьбы, и не две-три, а десятки и сотни, с неопровержимостью засвидетельствовав гибельность всех начинаний. Возникло ясное ощущение прецедента, властно понуждавшее к решительным выводам.
24 октября. Дом ученых. Лекция Лотмана «Семиотика культуры».
— …Организуя мир по своему образу и подобию, механизм культуры все время что-то активно вычеркивает («неизвестный Жуковский»).
Сама для себя культура не является столь многоязычной, какой представляется описывающему.
…Каждый тип социальной организации предполагает не только систему запрещений, но и возможность резкой смены поведения.
(Люблю эти негромкие хлопки небольшой научной аудитории, одобряющей своего коллегу…Современники, идущие одной толпой — от юности, когда они стали различать друг друга, до смерти.)
[За словами и фразами туманно вставали иные их значения, далекие от науки и прямо погружавшие слушателя в социум. Вставал туманный идеал организации общества, очень далекий от того, что их всех окружало. Лектор был жрец или прорицатель. Из слов ткался мираж царства свободы духа.]
Конец октября…Юра Попов развивал любопытную, как всегда, мысль о современной печатно-издательской жизни: «Сейчас можно иметь дело только с бандитами. Бандит уже завоевал свое бандитское положение, он не боится сделать либеральный жест. А либерал ничего не завоевал и потому всего боится».
7 ноября Е. Б. и Алена Пастернаки, в день именин Алены, собрали людей — человек тридцать — слушать Галича. <…> Левизна кипела и плескалась в большой комнате. Все сидели как бы на чемоданах, готовые сняться в любой момент. Думаю, там не было ни одного остающегося <…> В перерыве Галич жаловался, что та речь, на которой он строил ранние свои песни, исчезла будто бы из курилок и пивных — и там теперь тоже говорят на стертом газетном языке, который трудно ввести в песню (N потом — как и NN — сильно сомневался в этом: «Это он просто исчерпал ресурсы этой речи»).
Галич ожидает разрешения к январю — хотя и не уверен. «Хочу ехать в Норвегию. Я там был в командировке — и писал. Меня туда зовут, и мне нравится эта страна, народ… Хочу скорее оказаться в номере гостиницы, смотреть на чужую реку, которая ни о чем не напоминает».
10 ноября…Ненавижу звук и запах машин, не могу без содроганья вспомнить скрежет и звяк старых трамваев, но люблю, все еще люблю страшный гул пролетающего самолета — иллюзия свободного полета — к морю, к покою, к работе.
12 ноября. Макогоненко будто бы спас Жирмунского, когда во время войны арестовали Нейгауза и других — немцев и тех, кто занимается Германией. Он будто бы дежурил, и у него в списке на столе первым был телефон дежурного по НКВД — для звонков в экстренных случаях. Он позвонил и сказал, что арестован специалист, необходимый для экстренных нужд пропаганды. Сказали, что проверят; позвонили снова и сказали, что выпускают. Тут же его отправили в Ташкент — уже в дистрофии, и Иванов видел его в очереди за одним пирожком, полагавшимся по академическому пайку.
…В столовой научных залов в Ленинке стоя, как лошади в стойлах, жуют «читатели» эту еду, не имеющую ни вкуса, ни запаха пищи, — продукт, старательно превращенный в субпродукт. У людей, которых так кормят, и мозг превращается в субпродукт, и сами они становятся — субпродукт.
13 ноября. По телефону со Шкловским.
— Во-первых, здравствуйте.
Надо найти большую статью Юрия о пародии. Он не согласился с гонораром. Рукопись потеряна.
[Его память оказалась точной. В июле 1974 года рукопись неизвестной статьи Тынянова была найдена.]
Разговоры
— И что интересно — сожрбала его их замзав отделом пропаганды обкома. Всё! Уезжает из Ленинграда в Ярославль.
…Мы говорили — зрителей-то миллионы! А она уперлась — и все.
…Я обоснование — то написал хорошее.
…Этот вопрос будет на пленуме поставлен.
21 ноября. Грязный снег у решеток в асфальте, блеклое ноябрьское солнце в мглистом небе — и опять верится в возможность творчества.
Живем как поденщики.
29 ноября. [Об отъездах.]
…Была стена со всех сторон — и был упор, и что-то надо было делать, строить внутри этой стены. А теперь пропал упор — рука проваливается, и все растеклось как кисель, и пропало желание жизнестроительства.
Надо понять, что конвергенции не будет. Все стабильно. Одни будут там, другие здесь, и это до конца дней.
197416 января. Коридор Комитета по печати. Двери, двери — под дерево, стены, крашенные серо-зеленой масляной краской. Плохой паркет, линолеумная дорожка через весь длиннющий — метров семьдесят — коридор. Табличка: «Такой-то, главный редактор главной редакции общественно-политической литературы». Каждый день, входя сюда, он бросает косой взгляд на эту табличку и видит: сбылась мальчишеская мечта, он — из главных главный.
Огромный, седой, полноватый Туркин — человек формации 50-х. Маленький клеркообразный Иванько. Как он старательно устраивал на головенке свою шапочку, идя к выходу, — и посмотрел на себя в дверное стекло.