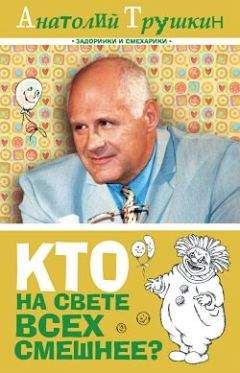Журнал «Новый мир» - Новый Мир. № 3, 2000
Огромный, седой, полноватый Туркин — человек формации 50-х. Маленький клеркообразный Иванько. Как он старательно устраивал на головенке свою шапочку, идя к выходу, — и посмотрел на себя в дверное стекло.
Ходят выросшие мальчики-троечники, не вышедшие росточком, навсегда в амбиции и в обиде и на рослых, и на умных.
«Общественно-политический» редактор Молдаван — тоже низкий, коренастый, с промятым внутрь лицом. А раньше пробежал его двойник — такой же, и тоже с одним глазом. Козыряют растопыренной пятерней проходящим коллегам — как в детстве и в уличной шараге.
Белокурые, все больше белокурые, а темные — или молдаване какие-нибудь, или украинцы.
В комнатах — светлые канцелярские с зеленым сукном столы, светлые полочки, асимметрично повешенные, — с черными пластмассовыми котами, с керамическими какими-то вазочками. За что-то висит на стеночке маленький красненький вымпел.
Редакция экономической и юридической литературы…
Главный редактор главной редакции художественной литературы. Редакции, которые ничего не редактируют.
А. Э. тоже уверен, что моему обзору помешал выход однотомника М. Б. «Казалось бы, должно быть наоборот, но вот…»
— Добрый вечер, тетя Настя!
— Добрый вечер, Володя!
— Что, пора домой?
У него широкая улыбка — до ушей, улыбка мальчика, уважающего взрослых.
11 февраля. Понедельничный рыжий снег.
27 февраля. Сын Розанова Вася погиб от испанки в 1918 г. в Курске.
Вера покончила с собой, вернувшись из монастыря больная туберкулезом, летом 1919, в Сергиеве Посаде.
В 1920 умерла падчерица — А. М. Бутягина. Могила Леонтьева была рядом с В. В. — в Черниговском скиту. Сейчас кладбище уничтожено.
3 марта. Молодая пара с болезненными и уставшими лицами, с большими сумками — утром в воскресенье едут куда-то отдыхать.
Он, шепелявя, говорит ей: «Вот все-таки войну во Вьетнаме окончили». Ее глаза, с красноватыми веками, смотрят мимо него, терпеливо и устало. Вытертое пальто (теперь это уже редкость); у него — шарф, под которым видна старая клетчатая рубашка.
12 апреля. В Музее Рублева.
В июле — августе каждую неделю поет хор Свешникова для очень богатых туристов в Андрониковом монастыре — 100 человек еле умещаются в маленьком алтаре. Вредно для сводов! А нельзя, чтоб пело 16, — остальным ведь тоже надо получать.
Афишу «Древнерусская живопись в частных собраниях» не позволили повесить в городе.
29 мая. Появились слова, ранее не употреблявшиеся в печати: «Эти профессии не всегда вызывают удовлетворение у рабочих».
17 июня. Французский флаг у Музея изящных искусств — широкие полосы, чистые цвета красного, синего, белого. Вдруг до слез показался он трогателен, близок.
Усталые и близкие сердцу лица русских рабов. Они ведь не сознавали своего рабства — и все же их любили, жалели великие.
29 июня. — Эти пакостные русские фамилии — Прокудин, Проскурин! Что за гнусность в звучании! (Эмфатическая реплика N.)
30 июня. Необычайно успокаивающе действовала странная работа, уже четвертый день шедшая за моим окном. В 8 утра раздавался лязг. На школьный стадион въезжал самосвал. Человек восемь мужчин и одна толстая женщина быстро разгружали, разравнивали дымящийся асфальт, и каток с грохотом наезжал на него. Через 15 минут все стихало. Женщина куда-то исчезала. Мужчины усаживались на траву у низенького школьного заборчика играть в карты. До обеда, поглядывая иногда в окно, я видела их шоколадные спины и непокрытые головы. Солнце, видимо, не утомляло их, как меня, а только радовало. Они играли, я писала. В три или четыре часа снова подъезжала машина, и опять двадцать минут кипела работа. В 5 часов все затихало до утра.
11 июля. Казанский вокзал был тот же в структуре своей, что и в 50-е годы. У стены спали на полу на газетке две женщины, поджав босые ноги. У другой сидели в ряд, прислонясь к ней спиной, молодые подозрительно коротко постриженные ребята. На платформах свободно пройти было также нельзя уже задолго — люди выходили сюда с узлами и чемоданами, ожидая поезда. И голосом тех давних лет спрашивал в меру пузатый человек: «Товарищ проводник, это какой вагон?»
20 июля. Около двух часов слышались во дворе пушечные удары. Полуголый человек ходуном ходил возле своего ковра, и при всяком его ударе взлетали клубы пыли. Наконец он свернул его и понес на плече, а впереди него побежала маленькая коротконогая собачка.
Тогда ожил второй человек, два часа просидевший неподвижно на бетонной трубе. На свободной теперь перекладине он развесил свой ковер, много меньший, но повел себя иначе, чем первый: провел по ковру пять-шесть раз не то щеткой, не то палкой, вернулся на свою трубу и вновь застыл на солнцепеке, не снимая своей плотной, с длинными рукавами куртки. Нет, нельзя было постигнуть ни того, ни другого.
28-29 ноября. Кисловодск.
— Так сказать, предали земле и все такое прочее.
Новое кладбище — в котловине. Вокруг горы-холмы, над ними яркое небо. Чистый, сладкий воздух.
Но как он в последние годы ходил вниз-вверх по этому городу?
Эти хлопоты о теле, о дыхании…
…Черноглазые, горбоносые, темноволосые в аэропорту Минвод, с диковатым и ошалелым взглядом горячих глаз. Странные побеги недоубитых, полуцивилизованных этносов…
Сетки, сетки, сетки. Единственная в мире страна, где раздутые авоськи составляют главную часть багажа, где весь скарб — обнажен.
В сетке-авоське тринадцатилетнего парня (который давно бы уже в прежние времена скакал на коне) — «Зоолокиjа».
О, этот темный мир горкомовских работников! Их широкоскулые мужчины, их грудастые женщины! Их шуточки:
— Помнишь, как мы с тобой с курсов сбегали?
— Да он, наверно, там пьянствовал в гостинице!
— Нет — я, наоборот, все ждала — когда угостит!
— А я все хотел выпить, да боялся: приеду, а она на горкоме вопрос поставит!
«Вопрос» — домашняя семантика. Всеобщий сыто-одобрительный смех, всеобщее понимание. Они — дома, за поминальным столом. Наскоро выпив за упокой, они пьют во здравие друг друга.
3 декабря. Кремль, Ивановская площадь.
— Ты что, хулиганить сюда пришел?
— Нет.
— Тогда слезай с пушки!
— Кто им это разрешил?
— Я разрешил.
— Ну и что тут хорошего?
— А что тут плохого?
4 декабря.
— …Так все же — вам «воздух» нужен или работа?
— Работа. Воздух — нет, я к этому равнодушен, в общем. И печатанье — не важно. Я не мог работать, у меня не было времени. С утра на службе в библиотеке. Я не могу и не хочу работать, как вы, по ночам, в свободное от службы время. Хочу работать. Я с детства был совершенно уверен, что буду путешествовать, для меня не существовало границ. Так и сейчас я твердо верю, что буду приезжать в Москву, и хотел бы застать здесь знакомые дома. В Риге-то я знаю, что все изменится.
5 декабря. «Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному» (Бенкендорф — Пушкину).
8 декабря. Отдел рукописей Библиотеки Ленина.
Информация парторга отдела Л. В. Т. о своей поездке в Америку:
— Уезжала я со слезами… нас пугали и штатские, и те, кому положено пугать…Я очень довольна, что увидела не только богатые виллы, но одноэтажную Америку, бедные запыленные домики. (Чем, собственно, довольна?)
Нью-Йорк — сверху зрелище величественное, но вместе с тем щемящее. Нет скверов. Там нет места ни романтике, ни человеческим чувствам.
17 декабря. «Бессмысленный гумор, который ни в чем не знает различия, мешает дело с безделием, ум с глупостью, грех со спасением» (Н. Надеждин).
20 декабря. Дом Кино на Васильевской.
По фойе двигались двойники уехавших. Прошел высокий Пятигорский, изрядно пополневший, в углу стоял и, широко улыбаясь, разговаривал с кем-то Эткинд с хорошо заросшей лысиной.
25 декабря. Свадьба в лабиринте «Арбата».
Невеста в фате, громко зовущая кого-то через весь стол.
Пьяный Ваня рассказывает про пятнадцатилетнего Кленова, 15 лет оттрубившего (после Бреста) в урановых рудниках Чукотки. «Сталин был сильный, авторитетный — а за его спиной делали».
Все бегут; все рассказывают на бегу, как ничего не успевают. Там, видимо, иначе — даже позорно объявлять другим, что живешь в загоне: значит, не умеешь жить. Там хвалятся благополучием, у нас — неблагополучием.
27 декабря. Из разговора:
— Важно, какая константа в основе. Я не уверен, что она [подразумевалась советская власть] была не нужна.
— А я — что она была нужна.
1975Январь.
Эти песни о том, как «тесен нам шар земной»…
Рассказ Антонины Петровны Оксман.
В 1935 году в Сестрорецке жили на одной даче, за рекой, Каверин и Оксман, напротив недалеко Тынянов. Тынянов приходил и читал им Зощенко.
В конце 1935 — начале 1936-го арестовали Жирмунского. Татьяна Николаевна Жирмунская рассказывала: следователь сказал, что дело его серьезно — грозит расстрел (немецкие диалекты!). Приехала в Москву. Крупская — подруга ее матери, поселилась у нее. Крупская передала Поскребышеву письмо. Сталин вызвал Вышинского и спросил. Вышинский прямо сказал, что он большой ученый. Выпустили.