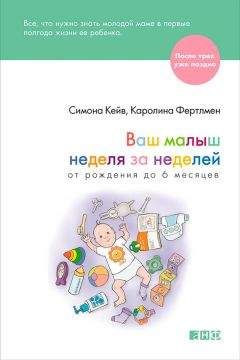Леонид Гартунг - На исходе зимы
— Где белая фуражка Паратова?
— Минька, отвернись, кому говорят? И придумал же кто-то эти брюки… Как их закрепить?
— А вот ремень.
— Ничего не получается.
— Смотри, тут дырки, как на подпруге. Дай помогу.
— Да они мне узкие.
— Минька! Опять? Ты у меня получишь.
В зале захлопали тугими большими ладонями. Между полотнищами занавеса просунулась Клава — счетовод колхоза, сегодня суфлер. Изо рта ее вырывался пар.
— Товарищи! Тише! Мы сейчас покажем вам пьесу Островского «Бесприданница». Дело происходит до революции. Содержания объяснять не буду. Сами увидите. А курить давайте кончать. Артисты кашляют.
Старая женщина, сидящая со мной рядом, поднялась со своего места, приоткрыла уголок занавеса и крикнула на сцену:
— Дуська! Ты что, очумела? Пошто плечи-то заголила? Простынешь, язви тя!
— Мне жарко, мама! — откликнулся звонкий голос Огудаловой-Дуси.
— Начинаем! — крикнула Клава и скрылась.
Чьи-то руки схватили занавес посредине и растащили его в разные стороны.
На сцене за столиком дядя Паша-Кнуров в чужом черном костюме. Брюки его слишком длинны и внизу подвернуты. В руках у него газета, он важно читает ее, откинувшись на спинку стула и положив ногу на ногу. Девичьей походкой с тростью в руке появился Вожеватов. Певучим голосом воскликнул:
— Мокий Парфеныч! Честь имею кланяться!
Кнуров строго взглянул на него.
— А, Василий Данилович!
Так началась наша с Островским пьеса.
Она шла два часа, а мороз все крепчал. В зале слышались подавленные вздохи:
— Грехи мои тяжкие… Ей-богу, насмерть закалею.
— Пошто я валенки-то не обула?
В антрактах зрители вскакивали, топали ногами, чтобы согреться, но никто не уходил, только покрикивали на сцену:
— Ребята, давайте поживей. Совсем пропадаем.
Когда грянул выстрел Карандышева, кто-то в темноте запричитал:
— Батюшки мои светы, что ж это деется? Убил ее, сердешную.
…Домой я шел в толпе и слышал, как около меня мужской голос уговаривал кого-то:
— Марья, слышь? Хватит тебе… Ну, чего ты? Это ж пьеса…
И женский голос сквозь всхлипыванья ответил:
— Оставь ты меня… Дай поплакать не о своем.
И потом дома я никак не мог уснуть, ворочался на своей полынной постели, и эта фраза все не выходила у меня из головы: «Дай поплакать не о своем. Дай поплакать…»
7Недели через две я уехал из Михайловки с последним обозом хлеба. Стояла морозная сушь, земля томилась по снегу. Легкий иней покрывал жесткую дорогу. На передней подводе под красным флагом сидел Минька Чеканов, кутаясь в брезентовый дождевик.
Я проводил глазами мою избушку. Теперь журавль опять единственный ее жилец.
Вот проплыло мимо кладбище с серыми крестами в темно-зеленом глухом ельнике.
Вот гулкий мостик, по которому пугливо простучали некованые копыта лошадей. Ремонтировали мы его вдвоем с дядей Пашей в первые дни моей работы. Я узнал даже новое бревно, которое мы с ним положили. Оно еще не успело потемнеть.
Когда обоз поравнялся с березовой рощей, я попросил Миньку придержать лошадей, соскочил с воза и побежал к школе.
В сенях стояла ребячья обувь: валенки, ботинки, галоши, чуни. Они выстроились ровным рядом, как солдаты. Сдерживая дыхание, я прислушался. Из-за фанерной двери слышался Шурин голос. Она читала стихи:
Уж и есть за что,
Русь могучая,
Полюбить тебя,
Назвать матерью…
Я тихонько, чтоб не помешать ей, приоткрыл дверь. Шура стояла перед классом, но не у учительского стола, а впереди, одну руку положив на плечо какой-то девчушке, а в другой держа раскрытый учебник. Но она не заглядывала в книгу, а читала на память:
Стать за честь твою
Против недруга,
За тебя в нужде сложить голову!
Это были мои любимые никитинские стихи, знакомые мне с детства, но читала она их совсем по-своему, словно беседовала. И я понял, что Шура видит сейчас не только лица детей, а и просторные степи Донбасса, черные треугольники терриконов на горизонте, дорогу, изрытую гусеницами танков, и черный дым пожара, уходящий в небо. И на этой дороге своего Василия…
Все было в ней как будто прежнее: те же туфли со стоптанными каблуками, те же русые, коротко остриженные волосы, открывающие сзади белую молодую шею и затылок, какая-то вязаная старушечья жакеточка поверх знакомой кофточки. Но было и другое, чего я прежде не замечал: то самое, что озаряет женщину таинственным светом новой жизни и делает ее такой красивой; то, что течет от поколения к поколению и чему нет дела ни до войны, ни до одиночества, ни до надвигающейся тяжелой зимы.
Она не заметила меня, не оглянулась, и хорошо, потому что я все равно не сумел бы сказать того, что чувствую. Это ведь была совсем не любовь, а может, именно любовь, такая, какой она должна быть…
Я дослушал стихи и, когда умолк звук ее голоса, неслышно прикрыл дверь.
На улице меня ждал обоз. Я взобрался на телегу и стал смотреть в сторону, чтоб никто не увидел моего лица. Минька стегнул лошадей. Колеса покатились вперед, стуча по сухой закоченелой земле.
Свидание
Закусочная в парке работала последние дни. Ледяные дожди шли почти целую неделю. А вчера вечером над аллеями замелькал даже мокрый снег. Цветные стекла и фанерные двери не могли защитить от холода. Березы шумели голыми ветвями над круглой крышей, и шум этот проникал внутрь.
Часы показывали всего половину второго, но небо заволокли такие темные тучи, что в закусочной пришлось зажечь свет. Посетителей было мало. Я пил кофе и посматривал на молодого мужчину за соседним столиком, Крепкие рабочие ботинки, просторные шаровары, куртка из коричневой искусственной кожи, серый свитер. Это мог быть и подсобный рабочий в большом магазине, и водитель грузового мотороллера. Он находился в той начальной стадии опьянения, когда хочется говорить. Он подмигнул официантке, как старой знакомой.
— Клава, ты бы чего-нибудь для сугрева…
Та даже не повернулась.
В это время в закусочную вошел мальчонка лет десяти с ученическим портфелем в руке. Сосед мой радостно помахал ему.
— Витек! Вот он я. Подваливай сюда.
Мальчонка приблизился к столику, поставил на пол портфель, неторопливо сел.
— Здравствуй, папа.
— Шапку не снимай, — заговорил отец. — Закалеешь. Почему поздно? Я уж думал, ты не придешь. Чего хочешь? Сосисок?
Мальчонка кивнул. Клава принесла им по две порции сосисок, окутанных горячим облаком пара.
Меня поразило лицо Вити: бледные нездоровые губы, сероватые глаза с рыжими ресницами, очки в металлической оправе. А, главное, общее выражение — недетская замкнутость с оттенком высокомерия или даже презрения.
Отец и сын заговорили тихо, и начало разговора я не слышал.
Потом отец повысил голос:
— Стало быть, не вспоминает? Ну и шут с ней. Покажи-ка мне дневник.
Сын поднял ясные неприветливые глаза.
— Я его дома забыл.
— Не бреши. Где портфель.
Отец раскрыл портфель и извлек из него дневник. Покачал головой.
— Драть тебя некому. По русскому два. По математике два.
Сын нисколько не был смущен, что отец уличил его во лжи. Он только вставил:
— А по истории пять.
— А почему дневник не подписан? — спросил отец. — Ее величеству некогда? Дай ручку.
— Не надо, — спокойно сказал Витя.
— А ты молчи. Я имею право…
Отец порылся в карманах, достал шариковую ручку.
— Я сразу за все недели. Вот так… На, спрячь.
Дневник снова в портфеле, а портфель на полу, прислоненный к ножке стула.
— Ты нажимай, нажимай, — напоминает отец. — Набирай силы. Ты потому и заморенный, что плохо ешь.
Витя берет сосиски руками, обжигается и дует на пальцы.
Пока он ест, отец без умолку говорит:
— Ну, где тебя черт носит? Ну, на кого ты похож? Где пуговица? Пооборвал? А она что? Пришить не может? Сам бы пришил. Ты же не маленький — в третий класс перешел.
Отец наклонился, спросил шепотом:
— А он тебя не обижает? Если что — ты только скажи. Я ему башку проломлю.
— У него ружье, — напомнил сын.
— А мне наплевать, — усмехнулся отец и наклонился еще ближе: — Вить, ты меня любишь?
— Угу, — отвечает сын с набитым ртом.
— Денег хочешь?
— Мне не надо.
— Как это не надо? Опять она научила? Я знаю — она. На, возьми. Мне для тебя ничего не жалко.
Витя взял трешницу, рассмотрел ее, разгладил пальцами и не спеша спрятал в дыру за подкладку пальто.
— Спасибо, — проговорил он и отодвинул тарелку. — Мне пора…
— А сосиски? Не оставлять же. Давай я тебе их в карман. И мои тоже.
Отец запихал сосиски в карман сыну.