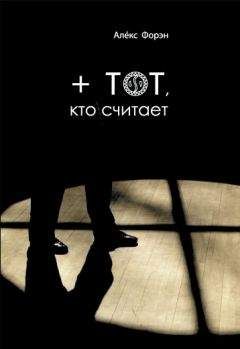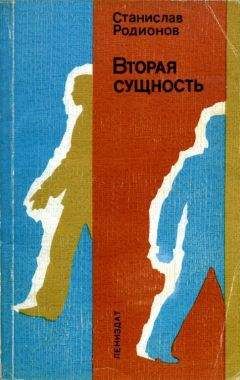Станислав Родионов - Избранное
Ему положена пара грузчиков. Один, значит, я на полном рабочем дне. И два парня на полставке, работают по полдня.
Один с утра до обеда. В трех местах вкалывает. Говорит, что деньгу копит для жилищного кооператива. Веселый, говорун и стрижен коротко под бобрик. Работалось с ним легко. Серегой звать.
А второй, который с обеда до вечера, парень мрачноват и держится под артиста. Волосы черные, кучерявистые, до плеч, как у цыганки какой. Очки темные, никогда им не снимаемые, усики мягкие, каемочкой. Кожа надета да всякая замша. Одним словом — сынок. Папа у него крупный начальник, посему сынок-грузчик прибывает на работу в своем «Запорожце». Правда, сильно потрепанном. Стаж ему нужен, сынку-то, для поступления в институт. Зовут Вячеслав. Ну, я зову просто — Вячиком…
Только я пришел, как машина прикатила с товаром. Семен Семеныч, конечно, своими бумажками шуршит — лицевыми карточками да накладными. А мы с Серегой коробки сгружаем в склад. Хоть они и легки — десять пальто в коробке, — а вздымать по стремянке на последний стеллаж не очень-то. Под потолок. Между прочим, я тоже специалистом заделался: ежели польт десяток, то они на меху, а ежели тридцать, то голокожаные.
— А еще-то на каких работах подвизаешься? — спросил я Серегу, когда мы отдышались.
— Паркеты натираю в одной шараге и ночным вахтером в другой.
— Не лучше было б приобресть тонкую специальность?
— Фадеич, квартира нужна. Да и заколачиваю на круг прилично. Чего еще искать?
— Хочешь байку послушать? — предложил я, поскольку они тут на складе еще не знали, что у них трудится баечник.
— Какую байку?
— Как мужик квартирой обзавелся…
— Трави.
…Во дворе завода стояла медная девица с продукцией в руках. То есть с шестеренкой. Ну, само собой, в купальнике и вся зеленой краской выкрашена. Только как-то идут рабочие на смену, а груди у нее сияют. Сама зеленая, а бюста горят, как медные самовары. Кто-то их надраил. Ну, хохоток. Директор приказал опять закрасить. Только на второй день горят, как пара здоровых апельсинов. И так всю неделю. Рабочие теперь не к станкам спешили, а к девице: кто, мол, кого? Что делать? Бюстгальтер надеть? Поставили дежурного, да он под утро ушел, и медная девица опять прелестями засверкала. А директор, не будь дурак, задумался и вычислил, чья это работа. Одного балагура, которому он в квартире отказал. Вызвал его, тот и признался. Мол, чищу и буду чистить, поскольку это не хулиганство. Короче, дал ему директор квартиру. Ну?
— Но стоит у нас во дворе медная статуя, Фадеич, — засмеялся Серега.
А меня Семен Семеныч направил вымести подъезд к нашей секции, поскольку машина с товаром побывала.
Метла есть, отчего не подместь. Он за мной наблюдает прищурившись. Говоря шепотком, толстых я не уважаю. Кроме больных. И то: с чего человек распух? От еды? Как бы не так. От спокойствия — сперва душа салом заплыла, а потом и тело. Тут малая еда не поможет. Тому ж куску хлеба в организме деваться некуда — ему ни в нервах не сгореть, ни в мускулах не сопреть. Я к тому, что эти спокойные и руки свои от работы берегут. Тогда за что же мне пухлых уважать?
— Нравится работа? — спросил Семен Семеныч.
— Всяк работа хороша, коли есть в тебе душа.
— Занятный ты мужик, Фадеич.
— Да и ты форсист, Семеныч.
У меня такой закон — тыкнули, и я тыкну. В порядке равенства. А завсекцией сделал губы трубочкой, поскольку была у него такая привычка, когда он чего-то замышлял. Правда, трубочка его как из жирных блинчиков свернута.
— Куришь, Фадеич? — спросил он как бы издалека.
— После войны бросил.
— А пьешь?
— Дай троячок — схожу на уголок, дай пять — сбегаю опять.
Гусь, то есть Гузь, задумался, поскольку не мог смекнуть насчет моей серьезности. Не знаю, смекнул ли, но к вопросу новому перешел:
— А деньгу любишь?
— Никак у тебя лишние есть?
— Просто так, интересуюсь…
— Десятка не взятка, а десяточку с нулями не дадите сами.
Он, конечно, всхохотнул. Ну и я, конечно, за компанию усмехнулся.
— Ну а баб, Фадеич, еще берешь?
— Баба не поллитра, от нее завсегда сбечь можно.
Кладовщик опять всхохотнул. Но я теперь воздержался, поскольку эти проверочки терпеть не перевариваю. И говорит он со мной так, будто я происхождением из диких племен.
— Семен Семеныч, а ты курящий?
— Ослеп? — удивился кладовщик.
И то в его блиннотрубочных губах дымит сигарета заграничная.
— А пьешь?
— В зависимости, — буркнул он, чего-то заподозрив в моих вопросиках.
— Ну, про деньги не спрашиваю…
— Почему ж?
— Коли пошел с высшим образованием на склад, то к рублю неровно дышишь. И про баб не спрашиваю, поскольку с твоей грузной комплекцией бабу не одолеть.
Я думал, что он эту заграничную сигарету сейчас изжует да в меня и выплюнет. Он ее изжевал, но выплюнул в урну, рядом стоявшую. Правда, круглое лицо налилось краснотой неописуемой, и может, мне почудилось, а может, так и было, но встали на его руках волосы дыбом.
— А какое у тебя образование? — спросил кладовщик, как бы заходя с другого боку.
— Два высших и одно полусреднее.
Он усмехнулся довольно — мол, нету у меня образования.
— По внешности, Семен Семеныч, образование теперь не определишь. Вот послушай байку…
…Жил один мужик весьма корявый. Говорил, будто во рту солидол налип, — понять можно, но переспросив. Гундосил, шепелявил, картавил, плюс сюсюкал. Прихрамывал на обе ноги — только на правую боле. И сморкался через каждую минуту, а чихал через две. Короче, пентюх с двумя классами. Никакого вида. А у него пара высших. Говорить не умеет, поскольку мама водила его в детстве на три языка, включая испанский. Оглох, поскольку мама водила на музыку, где ревела аппаратура. Хромает от фигурного катанья — на него фигурист фигуристку уронил. А хронические сопли от бассейна, поскольку понесли его туда в месячном возрасте. Так он теперь все на свете знает, а жениться не может. Ну?
— Занятный ты мужик, Фадеич, — с большим сомнением сказал кладовщик.
— Да и ты форсист, Семеныч.
— Иди-ка забрось коробки на верхний стеллаж…
— Серега уже отбыл, а одному несподручно.
— Вон его сменщик катит.
3
А сменщик проходную минует, вокруг нашего склада петлю даст и к бетонному подъезду свой утлый «Запорожец» носом приткнет. И сидит в нем, будто отдышаться не может. Я жду, а то плюну и в склад уйду. Тогда его преподобие и явится — волосы колечками до плеч, как у французского короля; походка медленная, с приволакиванием обеих ног; вместо глаз стеклянный мрак блестит… Короче, Вячик.
Я пошел к штабелю и жду-пожду. Коробки-то небольшие, со шляпами, да одному закидывать неудобно. Он приволокся, влез на стремянку и приступил к работе молча.
— Вяч, — не стерпел я молчанки, — чего ты завсегда смурной?
Не отвечает, как цельной грушей подавился. Видать, со стариком ему неинтересно. Правда, он и с кладовщиком всего парой слов обходится. Оно, конечно, молчание — золото. Только о своем напарнике я желаю знать всю подноготную. Коли не всю, то половиночку.
— Чего зря трепаться, — буркнул он.
— Хочу узнать тебя поглубже, Вячеслав.
— Зачем?
— У меня с войны такой закон — доверять напарнику, как самому себе.
Он по ступенькам приспустился, коробки от меня принял да и сказал, считай, полушепотом:
— А я йог.
Конечно, о человеке не по словам судят, но и по словам тоже. Кстати, еще один наглядный примерчик, что не по одной работе надо оценивать. Вяча бросает коробки как зверь. Ну и что?
Я так скажу: как человек работает, говорит только о том, как он работает. Немало, да не все. Скажем, вкалывает мужик, чтобы на автомобиль скопить или там на мебель невероятную. Так это ж он первую сущность ублажает, попросту именуемую утробой. Души и рассудка эти накопления не касаемы. Ну и такому мужику привет с набалдашником.
— Вячеслав, — уважительно поинтересовался я, — ты женатый или как?
— Я как.
— Чего так?
— Из-за болезни.
— Из-за какой?
Он опять приспустился, очками зыркнул и сказал придавленно:
— В прошлом году переболел лихорадкой о'нь-онг-ньонг.
— Что за зверь?
— Трясет, и работать неохота.
Вот и разговор пошел. Правда, он все с бурчал-кой, все как бы через нос да с тихим посвистом.
— Вяч, а кто у тебя отец?
— Министр.
— Неплохая специальность.
Врет он, чтобы отвязаться. А скорее всего, грызет Вяча гордое самолюбие. И то: молодой парень грузит шляпные коробки вместе с плешивым мужиком. С другой стороны, не одним же плешивым их грузить?
Между прочим, самомнение в молодых мы и сами возбуждаем. Квохчем: теперь, мол, у вас и ракеты, и телевизоры, и магнитофоны. И сыты вы, мол, и одеты дай бог. У нас этого не было, мол. Вот молодые и думают: ого! И жалеют нас, и держат за ископаемых слонов. А им надо бы внушить другое и побуждающее: мол, бедные вы ребята, все у вас есть, живете в довольстве, бороться вам не за что, а без борьбы, родимые, счастья не видать, как своих ушей. Пусть они нам завидуют — они пусть.