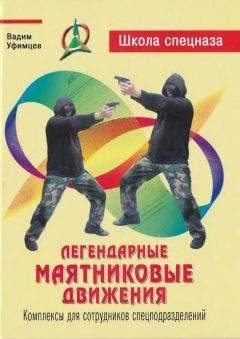Вторжение - Гритт Марго
Лью теплую воду осторожно, медленно, уставившись в точку, где кружевная дорожка пересекается с позвоночником.
– Мама однажды принесла живых карпов и выпустила в ванну, – говорю я, только чтобы нарушить молчание. Влажное, липкое, то молчание, что ощущаешь кожей. – Четыре, пять, не помню. Я тогда совсем маленькая была, ну и залезла в воду, к ним. Воображала себя русалкой, наверное… Мама была в истерике, когда увидела.
Не знаю, зачем я рассказала Лесе, глупая история, но, наверное, не страшно показаться глупым перед обнаженным человеком, стоящим на коленях. Хочу добавить, что мне нравилось, как их скользкие спинки касались ног, но забываю, потому что гадаю, какова на ощупь эта белая спина. Я читала, что акулья кожа, которая кажется мягкой и гладкой, на самом деле шершавая, как наждачная бумага, если гладить «против шерсти».
– Что случилось с карпами? – спрашивает Леся, не поднимая головы.
– Не знаю. Наверное, мы съели их на ужин, в тот же вечер.
– Варвара, мой маленький варвар, – говорит Леся, сладко перекатывая «р-р-р» на языке.
Не вижу ее лица за волосами, но знаю, что она улыбается. Слово «мой» щекочется внутри, дрожит и распускается в месте, где должно быть солнечное сплетение. Мой.
Мы срослись плавниками
Мы срослись плавниками
Мы срослись плавниками
Я не касаюсь ее, ни разу не касаюсь, только смотрю на перекресток, где бледнеет лиловая дорожка.
– Подай полотенце, пожалуйста.
Кастрюльки, ковшики, тазики… В череде проклятий, что из года в год обрушиваются на головы коммунальщиков, блестит, переливается, как рыбья чешуя на солнце, моя немая благодарность.
Леся берет меня за руку – вот так, запросто, берет за руку – и ведет через толпу на танцполе. И нет больше ни болезненной пульсации басов в грудной клетке, ни пьяных девочки-мальчики-танцуем, орущих в микрофон про беспонтовые ночи и синеглазое утро, ни запаха потных тел, ни прокуренного до черных легких сизого воздуха, сквозь который мы плывем, как две заплутавшие рыбины, два карпа в мутной воде. Есть только ее пальцы, ледяные, боже, какие ледяные пальцы. «Вегетососудистая дистония», – кричит она, наклоняясь к моему уху, и смеется.
Мой веселый мальчик-бред.
Взять кого-то за руку – это ведь так легко, да? Нет. Сосредоточься. Твердые пальцы или расслабленные, безвольные? Степень напряжения мышц – лишь одна из тысячи мелких деталей, которые нужно держать в уме. Ладони сухие или мокрые? Пожать руку в ответ или отстранить? Все будет расценено как знак.
– Знаешь, что мне больше всего нравилось в ней? – спросила Леся, когда мы ехали на трамвае по узкой улочке и мелькающие за окном огни фонарей отражались на ее лице. – Каждый раз, прежде чем отпустить мою руку, она легонько сжимала ее, будто просила прощения, – мол, мне бы не хотелось, но приходится, понимаешь. Я ненадолго отпущу, ладно? Этот жест… Я уверена, она даже не замечала его, пожимала машинально, не задумываясь, но я чувствовала…
Леся легонько сжимает мою руку, прежде чем отпустить. Машинально или?.. Мы идем к барной стойке, мы забираемся на высокие стулья – не слишком элегантно, мы смеемся нашей неуклюжести. Мы, мы, мы. Я повторяю «мы» про себя сотню раз. Мы заказываем самые дешевые коктейли из меню. Бармен не слышит мое смущенное бормотание «Секс на пляже», переспрашивает, и Лесе приходится прокричать за меня. Я произношу слово «секс» той ночью впервые – нет, серьезно, вот так, вслух – впервые, но мне нравится, как оно звучит. Drink – drank – drunk. Мы выпили еще дома – нашли в холодильнике початую коробку «Изабеллы», и теперь на моей груди в области сердца расползается кровавое винное пятно – невыносимо пошлая символика, но я честно пыталась оттереть его в ванной порошком.
Платье не мое, Леся дала мне платье матери – сказала, коллега Натальи Геннадьевны возит из-за границы шмотки по дешевке, все, что не подходит, отдает ей, потому что фигуры похожи. Черное в белый горошек, выше колена. Мне кажется, на мои толстые лодыжки в комариных укусах направлены все прожекторы бара.
На Лесе – короткая юбка в зеленую клетку, которую она постоянно одергивает, и белая блузка с маленькой золотой пуговкой на спине. Белая, чтобы перхоти на плечах было не видно. Я отвернулась, по привычке, когда она переодевалась, – господи, как глупо, я же только что видела ее голой в ванной, – но ждала, что она попросит застегнуть блузку. Она не попросила.
Босоножки на шатких шпильках, золотистые, с камешками-подделками, – Леся не носила каблуки, отвыкла в Москве, но вытащила из пыльной коробки школьные, в которых могла бы пойти на выпускной, если бы он у нее был, – на щиколотке пряжка крест-накрест впивается в нежную кожу, натирает. Леся морщится. Мама сказала бы: «Красота требует жертв».
Леся подняла волосы наверх, вытирает салфеткой взмокшую шею. На ее губах – помада вишневого цвета, которую она свистнула из материной косметички и тщательно вбила подушечками пальцев перед выходом. Я впервые вижу ее накрашенной. Ей не идет.
– Тебе не идет, – говорю я.
– Что?
– Косметика. Помада.
Мне нравится быть пьяной. Мне нравится играть в откровенность. Леся задумывается.
– Тебе не идет челка, – говорит она.
– Тебе не идет эта блузка.
– Тебе не идут очки.
По больному. Я тоже так могу:
– Тебе не идет быть матерью.
– Тебе не идет притворяться.
Я контролирую дыхание, я пока еще контролирую дыхание.
– Я не притворяюсь.
– Притворяешься.
– Я даже не понимаю, о чем ты.
Запалили секреты
Кто-то снова заказывает «Южную ночь». Будем честны, поет херово. «Херово» – да, теперь я говорю «херово», привыкай. Леся снова берет меня за руку, будто брать меня за руку – привычное дело, и тянет на танцпол.
– Когда мама напивается, ей хочется танцевать, – кричит Леся мне в ухо, и я чувствую ее дыхание на моих влажных от пота волосах у висков. – Мама не умеет танцевать, мама включает радио и нелепо кружится по кухне, тащит меня, больно трясет за плечи. Я ненавижу танцевать с тобой, когда ты пьяная, мама! – выкрикивает Леся и подпрыгивает на каблуках, не боясь подвернуть ногу. – Не знаю, зачем я вспоминаю о маме. Я не хочу о ней вспоминать.
Девочки, мальчики, танцуем
Девочки, мальчики, танцуем
Девочки, мальчики, танцуем
Раз, два, три
– А что, если мама напивается, чтобы забыть обо мне?
Девочки, мальчики, танцуем
Девочки, мальчики, танцуем
Девочки, мальчики, танцуем
Мы прыгаем и кричим. Кричим и прыгаем. Мы.
Барная стойка, наши стулья уже заняты, ударяюсь животом о чей-то локоть, воздуха не хватает, Леся тянется через ряд пустых бокалов, чтобы докричаться до бармена, опрокидывает чей-то мохито, просит намешать нам еще по коктейлю, но не разбавлять, как обычно, бармен делает круглые глаза, мол, никогда такого не было, Леся называет мне его имя, как будто она знает всех барменов в этом городе, но я не запоминаю, воздуха не хватает, Леся говорит:
– Нам надо выбрать песню. Мы должны спеть. Вместе. Сегодня твой экзамен, помнишь?
– Drink – drank – drunk! – отвечаю я с готовностью, как примерная ученица, как примерная пьяная ученица. «Секс на пляже» горчит.
– У нас должна быть наша песня, – говорит Леся.
Наша.
– У вас с… Игорем была «ваша песня»? – спрашиваю я, хотя про него мне знать неинтересно.
– Боже, да, – Леся закатывает глаза. – Мы первый раз поцеловались под «Такси» Николаева. Представляешь? Случайно. Но все равно отвратительно.
Леся делает вид, что ее сейчас стошнит.
– Я никогда не целовалась.
– Врешь!
– Нет, правда, никогда.
Ну, ладно, на дне рождения Карины мы играли с ее подружками в бутылочку, но бутылочка была из-под нольпроцентного кефира, и поцелуи были обезжиренные – в щеку. Не считается.
Леся смотрит мне в глаза, прищурившись, мне не нравится этот взгляд. Мне нравится этот взгляд.