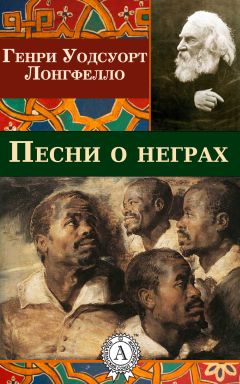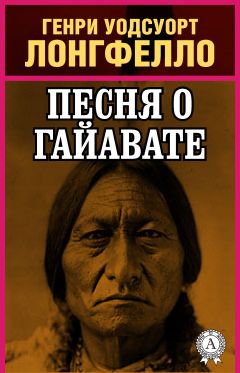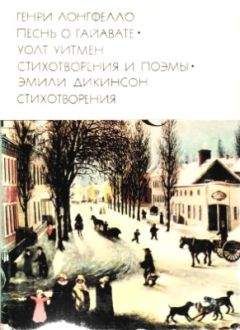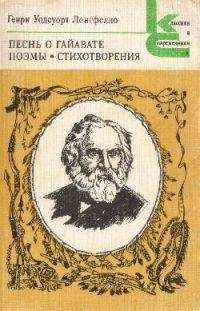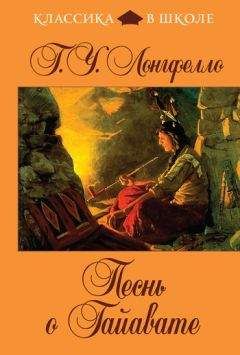Элизабет Гилберт - Последний романтик
Как бы ему хотелось, чтобы те непоколебимые люди, что работали с его дедом в лагере «Секвойя» в 1930-е годы, волшебным образом очутились рядом с ним вместо этих капризных современных деток, у которых, видите ли, есть чувства и потребности! Его дед требовал от людей безупречного, идеального поведения и по большей части получал то, что хотел. Если до Шефа просто доходил слух, что его сотрудника видели в городе в выходной с сигаретой, по возвращении в лагерь этот сотрудник обнаруживал свои чемоданы уже собранными. Шеф никогда не задумывался о том, что он ранит чьи-то чувства или поступает несправедливо. У него была полная власть – и именно этого хотел Юстас. Плюс желание работать с такой же отдачей, как он сам. Одним словом, планка была высоковата.
Мне довелось поработать у Юстаса Конвея. Этой участи не избежал никто из приехавших на Черепаший остров. Как-то осенью я провела там неделю – помогала Юстасу строить хижину. Работали мы втроем: я, Юстас и тихий, спокойный юный ученик по имени Кристиан Калтрайдер. Мы строили хижину по двенадцать часов в день, и никаких перерывов на обед я не припоминаю. Трудились молча и последовательно. Работа с Юстасом похожа на марш воинского подразделения – это нечто непрерывное и монотонное. Ты перестаешь думать и подстраиваешься под общий шаг. Юстас – единственный, кому можно говорить во время работы, и он делает это лишь для того, чтобы давать указания. Он делает это властно, хотя все его приказы вежливы. Он оторвался от работы лишь однажды. Попросил меня сбегать к ящику с инструментами и принести ему тесло.
– Извини, – сказала я, – понятия не имею, что это.
Он описал, как выглядит тесло – плотницкий инструмент, напоминающий топор, но имеющий лезвие, перпендикулярное рукоятке. Сказал, что тесло используется для обработки дерева. Я нашла инструмент и вернулась, чтобы отдать его Юстасу; в этот момент он вдруг опустил молоток, выпрямился, вытер лоб и сказал:
– Кажется, у кого-то из классиков было что-то про тесло. Разве не Хемингуэй писал о звуке ударов тесла, доносившихся со двора, где кто-то делал гроб?
Я прихлопнула слепня на шее и сказала:
– Ты, наверное, имеешь в виду Фолкнера. В романе «На смертном одре» есть место, где описывается, как кто-то делает гроб во дворе.
– Точно, – кивнул Юстас. – Точно, это у Фолкнера. – И вернулся к работе.
А я так и застыла на месте с теслом в руках, округлив глаза. «Точно, это у Фолкнера. А теперь давай рубить дальше».
Юстас хотел закончить пол хижины к закату того же дня, поэтому работали мы быстро. Ему так хотелось завершить работу, что он перепиливал большие бревна бензопилой. И в какой-то момент цепь задела сучок, и шина отскочила прямо в лицо Юстасу. Он остановил ее левой рукой и поранил два пальца.
Он издал короткий звук, похожий на «ра!», и отдернул руку. Брызнула кровь. Мы с Кристианом замерли в молчании. Юстас тряхнул рукой, разбрызгав кровь повсюду, а затем продолжил пилить. Мы ждали, когда же он что-нибудь скажет или попытается остановить кровотечение, которое было довольно сильным, но он не прекращал работу. И мы тоже занялись делом. У Юстаса по-прежнему текла кровь, но он пилил и орудовал молотком; кровь текла, а он всё пилил. К концу дня вся его рука, бревна, инструменты, обе моих руки и руки Кристиана были в его крови.
И я подумала: так вот чего он ждет от нас.
Мы работали до заката, а потом пошли в базовый лагерь. Я шла рядом с Юстасом; рука его повисла вдоль тела, с нее капала кровь. По пути нам встретилось цветущее растение, и Юстас, никогда не упускавший возможности чему-нибудь научить других, сказал:
– Вот интересная штука. Обычно на одной недотроге[52] не бывает желтых и оранжевых цветов. Ты знала, что из ее стебля делают мазь, которая помогает от чесотки при заражении ядовитым плющом?
– Очень интересно, – заметила я.
Юстас забинтовал раненую руку только после ужина. И за всё это время заговорил о случившемся лишь один раз.
– Хорошо, что пальцы не отхватил, – сказал он.
Позднее тем же вечером я спросила его, какая у него была самая серьезная рана, и он ответил, что никогда серьезно не калечился. Однажды, разделывая тушу оленя, он по неосторожности рассек большой палец до кости. Это был глубокий длинный порез, «мясо висело и всё такое», и нужно было наложить швы. Вот Юстас и наложил – с помощью иголки с ниткой, используя шов, который ему хорошо знаком (он же шьет одежду из оленьих шкур). Рана зажила просто замечательно.
– Мне вот кажется, я не смогла бы себя зашить, – проговорила я.
– Человек может всё, надо только верить.
– А вот я и не верю, что смогу зашить свою кожу.
Юстас со смехом сказал:
– Ну тогда, наверное, в самом деле не сможешь.
«Люди здесь делают всё с таким трудом, – сетовал Юстас в своем дневнике в 1992 году. – Среда для них совсем непривычная. И они-то не испытывают никаких проблем. Меня больше беспокоит то, как я раздражаюсь из-за их медлительности и невежества. А они тем временем блаженно наслаждаются каждой минутой».
Проблемы сыпались на Юстаса отовсюду. Один его друг заметил, что он зря не оформит медицинскую страховку. «Но я здоров!» – возразил Юстас. И тогда его друг объяснил, что если Юстас серьезно покалечится, скажем, в результате аварии и ему понадобится интенсивный уход, то на покрытие больничных расходов могут уйти все его сбережения, включая землю. Ну ничего себе! Раньше Юстас никогда об этом не задумывался. Кроме того, он должен был платить бесконечные налоги и оплачивать землемерные работы. Не говоря уж о браконьерах, промышлявших на его земле. Как-то он наткнулся на тупого парнишку, который пристрелил оленя не в сезон из незарегистрированного оружия всего в паре сотен футов от его кухни. И что ужаснее всего, его самого обвинили в браконьерстве.
Как-то раз, когда он вел занятие для восьмидесяти ребят, подъехали четыре федеральных автомобиля, из них вышли восемь полицейских и арестовали его за незаконную охоту на оленей. Егерь, которому пожаловался ненавидевший Юстаса сосед, сразу же направился на склад Юстаса, где у того хранилось несколько дюжин шкур, и обвинил его в охоте без разрешения. А на самом деле эти шкуры дали ему другие люди, чтобы он их выдубил. Юстас тогда страшно перепугался.
В течение месяца он собирал расписки у всех, кто дал ему шкуры, и подтверждения защитников окружающей среды и политических деятелей со всего Юга, которые клялись, что Юстас Конвей – экологически ответственный гражданин, который никогда не стал бы убивать дичи больше положенного по закону. Однако в день суда ему хватило наглости прийти в зал слушания в штанах из оленьей кожи. А почему бы и нет? Он всегда в них ходил. Он вошел в зал суда вразвалку, как Джеремайя Джонсон.[53] Матушка Моу, старая соседка из Аппалачей, которая жила в низине и ненавидела закон с той же лютой силой, что и своих деревенских соседей, пришла с ним, чтобы оказать моральную поддержку. («Как бы судья не стащил с меня эти штаны и не посадил меня в каталажку», – шутливым тоном произнес Юстас в разговоре с матушкой Моу. Та твердо сказала: «Не переживай. У меня под юбкой панталоны. Снимут с тебя штаны, я отдам тебе свои панталоны. Будешь щеголять в тюряге в моих подштанниках, Хьюстон!») Матушка Моу любила всех братьев Конвей, но никак не могла запомнить их по именам.