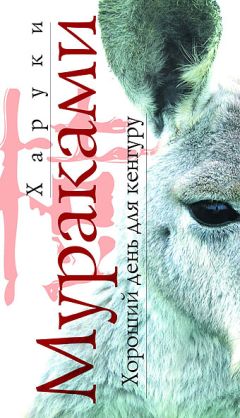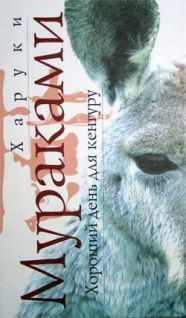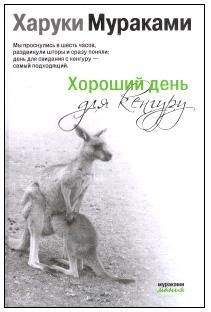Сергей Саканский - Человек-тело
Вся моя жизнь прошла совсем не так, как я того хотел. И я склонен обвинить в этом именно его, «писателя», как называла его Вичка — в кавычках.
Вот как должна была пройти моя жизнь.
В конце восьмидесятых я женюсь на Анюте. Жизнь моя приобретает смысл. В любви. Вместе — мы сила, мы семья. Вероятно, обретя этот смысл, словно дарованное свыше сокровище, я трепетно берег бы его. Возможно, я бы бросил писать стихи, но не навсегда, а на какое-то смутное время. И я бы не бросил бизнес в самом его расцвете. Был бы сейчас богатым. Дело мое работало бы, как хорошо смазанный механизм. Дети — мальчик и девочка (я уже фантазирую, но в мире сновидений все позволено) — сейчас были бы крепкие, красивые, двадцатилетние люди. Отправили бы их учиться на Запад. И тогда я бы снова вернулся к поэзии, но уже на другом уровне. Не нищий, ожидающий подаяния. А человек, издающий книги за свой счет. Меценатсвтующий. Арендующий залы для себя и друзей-литераторов. Возможно, и Кокусев был бы в их числе.
Вот какой бы я был хороший, пушистый, мягколапый… Увы, я оставил мой бизнес. До сих пор не могу вразумительно объяснить, почему. Продал магазинчик, купил квартирку. Несколько лет жил незнамо как. Затем не выдержал нищеты, сдал квартирку, снял другую, подальше и подешевле, на разницу жил еще несколько лет, худо-бедно, но все же сводя концы. Пока не встретил Вику и не начал с нею новый бизнес…
…Анюта моя! Когда-то нас тянуло друг к другу. Мы не говорили об этом, но все было ясно без слов. Я только что начал за ней ухаживать, но тут появился он, налетел, как коршун, и отбил девушку.
Она вышла за него, потому что у него была квартира и прописка. Но, по иронии судьбы, они первые полгода прожили в общаге. Почему? Думаю, хотели утвердить себя, не делить с родителями.
Они жили в шестьсот восьмой комнате, а в соседней, шестьсот седьмой, кричала Лиана. Это была армянка, замужем за индусом. Взрывная пара, можно было подумать. Один — со своей камасутрой, другая — со своим темпераментом. Правда, камасутры хватало всего лишь на один раз в сутки, в течение десяти минут. И раз в сутки, всегда по десять минут (плюс-минус) темпераментная кричала. Равномерно скрипела кровать, будто кто-то пилил бревно (Набоков), и Лиана громко и омерзительно кричала в такт этому пилению. Випина молчал. Он просто пилил бревно.
Об этом, именно с цитатой запретного тогда Набокова и поведал мне Кокусев. Я изъявил желание это услышать и напросился в гости. Раньше мы не особенно дружили. На почве кричащей Лианы сошлись. Так это должно было выглядеть со стороны.
Я просто хотел видеть ее. Как она вязала голубой свитер. Опущенные веки. Как разливала чай. Пальцы. Накручивала локон. Я не знал, что он знает о моей любви. И не знал, что он называет меня Ублюдком, да еще с большой буквы. Что уже припас топор.
Анюта моя!
Прекрасно помню этот момент, описанный им в этой тетради. Я вышел. Прошел несколько шагов по коридору. И тут же услышал женские стоны. Я решил, что это, наконец, закричала Лиана. Вернулся, взялся за дверную ручку. Дверь была уже заперта. Стоны перешли в крики. И доносились из-за их двери.
На следующий день Анюта подошла ко мне в коридоре, перед лекцией и, накручивая, кажется, локон на палец, попросила не приходить больше. Потому что это не очень прилично и т. д. Негоже влюбленному безнадежно посещать дом молодоженов. Так это выглядело для меня. А он, молодожен, оказывается — топор. И вот, через четверть века я узнаю про этот топор. Забавно.
Реальность фальшива. Мы просто создаем ее друг другу. Я создал для «писателя» реальность такой, какой хотел, послав ему Вичку. Но Вичка, мой человек-тело, создала реальность не только ему, но и мне. Это я понял, только прочитав ее записи. Наивный, я полагал, что она со мной заодно. Впрочем, она делала то, что я требовал, несмотря на секретность собственной миссии: уничтожить «писателя» вместе с его писаниями. Я тоже создал ей реальность, что якобы всего лишь хочу овладеть его имуществом и зажить припеваючи. Так и не догадалась о моих истинных мотивах, а все мы — «писатель», Вичка и я — создали реальность для будущего читателя. Тот, пожалуй, весьма удивится, когда в конце она, эта реальность, окажется совершенно другой. Реальности не существует.
О читатель помоечный наш! Отравленный и избитый. Цокающий языком над этим маструбатическим[35] сокровищем. Малкий серый член меж страниц сующий… Прими собранье сраных глав! Она как-то раз употребила это слово: малкий, я покумекал, но забыл спросить, что оно значит…
Бомж вонючий, бывший учитель словесности, который решил поправить свое материальное положение, продать двухкомнатную, купить однокомнатную, а на разницу жить и жить, но тебя кинули, словно какого-нибудь Жирмудского, и ты оказался на улице, без гроша.
Шебуршился в мусорном контейнере и нашел тетрадь. Локти к бокам прижав, а кулачки к груди, синим цыпленком стоишь в утренних сумерках. Ночью, в подвале у трубы отопления, утробы смерти твоей, читаешь чужое счастье…
Нет, надоело. Пытался скроить из его и ее записей нечто третье. В жопу словесную малкую мздру!
[На полях: «Чистую тетрадь я нашел, чистую, чистую! Чистую тетрадь в линеечку!»]
6
Вичке я сказал, что у меня дела, очень важные, важнейшие. Как раз в те дни, когда мы, по расписанию, должны были встретиться, Анка поселилась у меня, просто в комнате Вички, на ее постельке. Она было решила завести такой чопорный закон: приходить ко мне по ночам, базируясь якобы в своем отдельном жилье, но я довольно скоро произвел революцию и сбросил тирана. Стал заламывать мою женщину где ни попадя, как я это люблю делать с ними со всеми, постреленок и удалец.
Я такой: если пришло желание, исполняю немедленно. Этим я компенсирую недостижимость жизненных желаний вообще — славы и богатства, здоровья и бессмертия. Анна быстро приняла условия своего существования на моей жилплощади и всегда была в готовности, что ей запихнут в рот или в ухо, не говоря уже о главной дыре, которая у нее, надо заметить, друзья, была шире ворот Эдема — постарались хлопцы, прокатились на колеснице боевой. Я брал роковую любовь моей юности то посреди чопорного чаепития в кухоньке, то за стиркой белья раком над раковиной. Хорошо, очень хорошо я пишу! Проза поэта.
Только вот аналу она не давалась, сучара, даже пальцы мои отшвыривала, когда я ненароком жаждал залезть ей в уста, которыми она не говорила по-фламандски.
Впрочем и акустическими устами она не владела этим дивным языком. Я спросил:
— Почему ты не хочешь в зад, моя королева?
В ответ она лишь прижала палец к моим губам…
Драли ее, видать, слишком много за жизнь, и трудно представить, что не нашлось приличного говнюка, особенно, среди молодежи (а после сорока, она, разумеется, переключилась на мальчишек), так вот, среди этой сраной молодежи не могли не найтись говнюки, ибо в наши анальные времена их учат демократической широте с младенчества.
Так и представляю себе, как где-нибудь в детском саду они обсуждают эти дела, сидя на горшках. Помню, как это было у нас:
— У дяди есть петушок, а у тети есть кулочка — такая маленькая попка есть спеледи. Дядя засовывает свой петушок в эту попку. И им обоим становится плиятно.
В современном мире это происходит иначе:
— У дяди есть петушок, а у тети — тли дылочки. Дядя засовывает свой петушок то в одну дылочку, то в длугую, то в тлетью. И им обоим становится плиятно.
Может быть даже и так:
— У дяди есть петушок и две дылочки, а у тети нет петушка, зато дылочек аж целых тли. И вот, как собилутся дяди и тети все вместе, как начнут все дяди петушками в дылочки тыкать — и тетям, и длугим дядям… И всем-всем-всем становится плиятно.
Боюсь, просто больна была моя девушка, кто-то со слишком жирным фаллосом заделал ей анальную трещину. Потому и не давала в зад. Как всегда. Кто-то другой насладился и выбросил на помойку. А мне достались одни обглоданные кости.
Мы, оглядываясь, видим лишь объедки,
ненароком брошенные наземь…
Позже, когда она уже переселилась к Кокусеву, продолжая блядовать по-домашнему уже там, произошла история с лилией, которая так задела глупенькую девчонку мою. Если бы девочка моя знала всю ее подоплеку!
Анка, видать, принесла мне листочек со стихом специально, чтобы похвастать, как писатель любит ее, бережено держала где-нибудь в нагрудном кармане или за лифчиком, чтобы вышвырнуть козырем на стол. Так и не заметила, бедная, как вывалился листочек, белой птичкой слетел за горшок. Когда я ее, упругую, словно и впрямь какую-то змею, скрутил над подоконником, над цветком, и засадил ей, наконец, в ее гордую задницу. Помню, она в тот день все искала что-то на полу. Этот стишок и искала, как ясно теперь.
Горная орлица. Проперделась, старая курица, как только вытащил победоносным рывком из ее клоаки. И правда оказалась трещина: кровь потекла по варикозным ляжкам извилистой, словно равнинная речка, струей. Четверть века сопротивлялась крепость. Пала. Листья моей лилии своими волосьями полила, словно дождем. Высушила лилию, и девочке пришлось вышвырнуть ее.