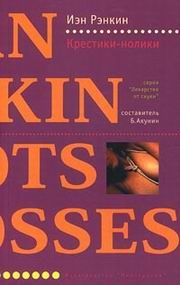Ядвига Войцеховская - Крестики-Нолики
— Всё по-честному. Бой был. Они и мы, — э, нет, это не ответ, друг мой.
— Ты не сказал — жалко?
— Вы кто? — вот как, вопросом на вопрос, значит…
— Я кто надо, — Адель уже не знает, что ему надо — чтобы кто был: свой, чужой?
Оказалось, надо — как раз то, что и есть. Просто сказать уверенно, а он это услышит.
— Не знаю. Да, наверное, — наконец говорит парень и закрывает глаза.
Значит, жалко, раз "наверное". А сколько там плюсиков в ведомости? Запястье чистое, без крестов. Ну… просто не стал подражать. И тот, что слева от неё, не стал. Хотя этому на вид лет сорок, такой не будет, да и цифры — не шестёрки. Не каратель.
— …Письмо пришло? Пришло письмо?… А?… Письмо? — прямо как заведённый. Что ж ему далось какое-то письмо? — Нет? Не пришло? Ну, как же, ведь табель с оценками?… Надо же, мы больше волнуемся, чем он сам! Подумать только! Накрывайте к обеду. Значит, придёт завтра, дорогая. Я не узнаю? Почему?… Да, ты ведь знаешь, служба… Ну, что ж заново начинать, дорогая? Вон там кто — не почтальон? Ах, нет, прости. Что ты сказала? Всё будет хорошо, он доучится, беспорядки закончатся… Нет, погляди, это и впрямь почтальон! Он скажет сам, зачем выспрашивать? Я не думаю, что будет хоть одна двойка…
Горячие пальцы цепляются за руку Адель, и она понимает, что этот человек разговаривает с ней. То есть не с ней, полукровкой Адель Дельфингтон, а со своей супругой, но супруга осталась где-то там, далеко, и есть только Адель, да он и её-то не видит, и существуют лишь эти горячие пальцы, которые с такой силой сжимают её руку, что вот-вот раздавят.
Адель с надеждой оборачивается к Берц, но та снова курит, глядя мутными, пустыми глазами куда-то перед собой. На струйку сигаретного дыма. Не считает уже, сколько ночей без сна. И уж точно давно потеряла ведомость с маленькими плюсиками. Адель чуть высвобождает затёкшую руку из захвата — так и кости переломает, сам того не желая.
— Мне пора, дорогая, — продолжает он. Там, в сверкающем полуденном солнце, ставя на стол с белой скатертью хрустальный бокал с вином. Целуя щёку, пахнущую персиками и малиной. И уходя. — Всё будет нормально, только не забудь про оценки. Он умный, он выучится и уедет в столицу. Но почтальон ведь пришёл, правда? Ведь я видел, сам, своими собственными глазами видел. Да, дорогая? Ведь это был он?
— Да, — говорит Адель, и сжимавшие ее руку пальцы расслабляются, а потом и вовсе соскальзывают, бессильно падая на влажную от пота простыню.
— Госпожа доктор? — давешний мальчик. Как же всё-таки его имя? — Благодарю вас, мадам. Мне лучше. Я просто дурак.
— Да уж, — она находит в себе силы улыбнуться.
— Вас можно спросить? — он медлит, явно чего-то опасаясь. Или стесняясь.
— Можно, — Адель ещё раз ободряюще улыбается.
— Я что-нибудь болтал? Ну, как они? — он отводит взгляд.
— Ты просто хотел быть похожим на… мадам Берц, — ну, как ещё ответить? И вот, находит-таки слова.
— Я струсил, — вдруг говорит он. — Я просто жалкий трус.
Так. Теперь молчать, крутя в пальцах пояс платья, или что-нибудь ещё. Что угодно. Можно ещё поправить причёску. Захочет — сам скажет.
— Она говорила, что нельзя смотреть в глаза, когда…. Ну, вы понимаете, — ну, вот, так и есть, захотел — сказал.
— Когда убиваешь, — это уж и не вопрос, это утверждение.
— Да, — подтверждает он. — И кто-то не чувствует ничего. Ничего вообще, понимаете?
— И что? — ей действительно интересно.
— А мне было страшно, — признаётся тихо; но всё равно, вряд ли кто-то слышит. — Но я справлюсь, не думайте. Говорят, поначалу так всегда. Потом легче.
— Когда? Когда наколешь десять крестов? Пятнадцать? Больше? — интересуется Адель.
— Не знаю. Но я не должен… трусить. И помнить это всё — тоже не должен. Нельзя помнить… такую свою работу. Иначе сойдёшь с ума.
— А ты помнишь, — звучит, как приговор.
— Госпожа доктор… — единственная свеча отражается в его глазах двумя крошечными искрами. Веки припухли, и кажется, что он плачет — лихорадка ещё не прошла, она припечатывает его к кровати, размазывая податливое тело по простыне. Обессиленные пальцы перебирают ткань тонкого покрывала. — Госпожа доктор?… Вы не уйдёте?
— Нет, — решительно говорит она. Нет. Уже не ушла бы. Никогда. Даже если бы не было штрих-кода с шестёрками, и двух фотографий, в профиль и анфас, прикреплённых к тонкой папочке в особом отделе.
— Как вас зовут? — этот вопрос наверняка нельзя задавать, и потому говорит он еле слышным шёпотом, похожим на шелест листьев. Листьев акации под окном.
И почему-то именно в этот момент непрекращающийся гул голосов в лазарете, похожий на прибой, смолкает — как будто все до единого слышали вопрос и тоже хотят узнать ответ — сквозь дымку бреда, сквозь пелену боли, сквозь мрак беспамятства. И сквозь завесу сигаретного дыма с запахом вишни. Две крошечные точки в глазах лейтенанта Берц — отражение пламени свечи — или огненных трассеров пуль? Или это только так кажется? Она разгоняет дым рукой — и почему-то молчит. Ведь никаких имён, или нет? Эти две крошечные точки в её глазах. А какого цвета — Адели не разобрать. Далеко.
Цел старый маяк, хотя она по-прежнему не умеет плавать, это правда. Но теперь она научится. Только вот стёкла-линзы вылетели к чёртовой матери, и перебита вся посуда. Но если есть хранитель, то будет жить и маяк — пусть без стёкол, открытый всем ветрам и ледяному северному шторму, несущему снег вместе с чёрной волной урагана.
Свеча потрескивает, и капля воска срывается и падает на стол, застывая крошечным кружочком. Игры на полосе, которая теперь перестала быть нейтральной. Крестики-нолики. Тишина и тяжёлый запах крови, немытого тела и дезинфекции. Бьётся снаружи сырой промозглый ветер, бросая в оконные стёкла пригоршни дождя, смешанного с лепестками отцветающей черешни.
— Ад, — говорит она. — Доктор Ад.
Глава 10
Не прошло и недели, как в моей жизни на самом деле появился финт с молитвенником, о котором я так неосмотрительно поведала Адели.
Можно было пытать меня сколько угодно, можно было посадить меня на электрический стул или в клетку с тиграми, — но я всё равно не сказала бы, каким образом Адель развела меня на такую лажу, и — самое главное — зачем всё это нужно.
Потому что попросту не знала сама.
Я перестала ломать голову над этими новшествами, и теперь мою жизнь разнообразили посещения кафедрального собора, где по воскресеньям меня ожидал маленький коричневый молитвенник с вложенной запиской.
В первый раз я неслась туда, как будто следом за мной гналась стая бешеных собак. Когда я вихрем домчалась до церковных ворот, от меня валил пар. Не знаю, что я ожидала там увидеть: признание в страшном преступлении или пронзённое стрелой сердечко. Сопя на весь собор, я вынула записку.
Там было всего два слова: "Доброй ночи".
Я мысленно застонала и насилу удержалась, чтобы не шваркнуть всё это хозяйство об стену.
Да уж. Верно, это и впрямь было до ужаса романтично.
Не знаю, что поразило меня больше — отсутствие сердечка, или присутствие какой-то полной шняги, которая, тем не менее, была мне за каким-то хреном нужна.
Я иногда пыталась тормознуть и не тащиться к чёрту на рога из-за пары слов, в которых не было ровно никакого смысла. Точнее, не было ничего такого уж особенного. И в который раз всё-таки тащилась…
Хотя бы по той простой причине, что мы не могли миновать КПП, демонстративно держась за руки — и не рискуя при этом по возвращении не нарваться на конец истории.
Конечно, этот конец маячил где-то там, впереди, но мы были не такими остолопами, чтобы своими руками разбить мир под названием "сегодня", похожий на хрустальный шар, с тополиной метелью вместо снега, поскрипыванием флюгеров над шпилями и днями, похожими на наполненные солнцем капли янтаря.
Если Адель не оставляла записку в соборе, значит, записка была в дырке в стене.
Я не задала ни единого вопроса — потому что мне по какой-то неведомой причине становилось тепло, когда я видела эти её фиолетовые каракульки.
На листочке в клеточку, заложенном меж страниц с красным обрезом маленького молитвенника, который никто и не думал позаимствовать…
День начался с "доброго утра", которое добросовестно передала мне дырка в стене.
Сразу после построения я бодро затопала в сторону госпиталя: Берц всё ещё пребывала в горизонтальном положении, а мы были, как взбесившиеся школьники, у которых неожиданно заболел строгий учитель.
Нет, ребята, даже не спрашивайте, почему Адель не говорила мне лично все эти "доброе утро" и "доброй ночи". Подозреваю, что прямо-таки из воздуха всё же материализовалось правило номер чёрт-его-знает-какое-по-счёту. Но с этой вереницей правил я уже ничего не могла поделать — они нагло врывались в мою жизнь и вели себя так, будто тусовались тут всегда.