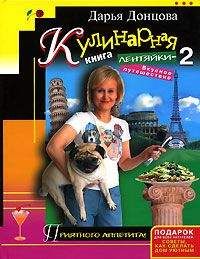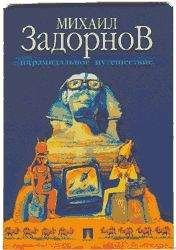Артур Япин - Сон льва
— Тогда решай сама! — зло говорит он.
Его раздражение уже никак не связано с их утренней размолвкой. Он зол даже не на нее, как думала она, а на себя. Он — мужчина, откуда ему знать, что именно сильнейшее сопротивление порой выглядит, как уступчивость? Он видит лишь, что ее дыхание участилось и что она все больше отдается Фульвани. Максим проклинает свою безудержную похотливость, из-за чего это зрелище — мужчина запускает пальцы в лоно Галы — несмотря на всю отвратительность ситуации, все-таки возбуждает его. Это не укрывается от Фульвани.
— Вот видишь, — шепчет он Гале на ухо, скользя пальцами между срамных губ, — наш лыжный тренер тоже ждет-не дождется, когда ему дадут к нам присоединиться. Ты разрешишь ему?
И Гала снова стонет, с еще более страстной мольбой. На этот раз всем троим ясно, хотя каждый понимает по — своему: Гала просит, чтобы с ней занялись сексом.
Говорят, фантазия расширяет наше сознание. Я убедился, что она его сужает. И благодаря этому сужению дает нам возможность убежать.
На протяжении всей последующей сцены взгляд Галы зафиксирован на одной точке вдалеке. Этот прием она усвоила с раннего детства. Мало людей слышат разницу между воплем радости и криком отчаянья.
Когда отец Галы в одном из своих причудливых настроений в присутствии гостей снова просил ее сделать нечто невозможное или унижал ее, если она с этим не справлялась, она устремляла взгляд в конец туннеля упреков, через который вынуждена была пройти. Там сияла награда в виде его любви. Тогда она представляла себя индейцем, который идет сквозь разъяренную толпу с розгами. Она придумала этот способ, чтобы выдержать причуды отца, вводившие в ступор ее сестер и мать.
Что разыгрывается в «Скайлайте» на самом деле, Гала видит только краем глаза. Тела мужчин, которые ласкают ее и которых ласкает она, она замечает лишь в той степени, в какой сама себе позволяет. Этого недостаточно, чтобы почувствовать страх, отвращение или горе, даже надругательство над собой, но достаточно, чтобы понять абсурд происходящего и периодически разражаться гортанным смехом. Тем временем кажется, что ее сознание уже где-то впереди и ждет ее в конце туннеля. Так она остается в равновесии, и возможно, временами даже наслаждается: мужчинами, возбуждением от необычности ситуации и собственным мужеством. Ролью, которую она придумывает себе сама.
Канатоходец, не глядя вокруг себя, знает свое местонахождение. От этого зависит все. Он балансирует. Заметь он, в каком положении находится, он не справился бы со своей задачей. Он не смотрит вниз на землю, чтобы не увидеть, как высоко ему падать. Он даже не смотрит, куда ему поставить ногу. Реальность, в которой он пребывает, где-то есть, но вместе с тем — ее нет. Он знает, где он, и одновременно — не знает, потому что закрывается от этого. Эквилибрист ограничивает поле своего зрения маленькой точкой вдалеке. Он сосредоточивается на своей цели. И так, сузив свое сознание, он доходит до противоположного конца каната.
Это — мой гимн любви.
Мои пом-пом, по-по-мидоры,
Чудесный цвет, прекрасный цвет,
Других таких не видел свет,
Их слаще нет, их лучше нет,
Клади скорей себе в пакет
Мои пом-пом, по-по-мидоры!
Узнав меня, продавец на рынке делает все возможное, чтобы привлечь мое внимание.
Больше всего на свете мне хочется забраться на постамент к Джордано Бруно[148] и спрятаться под его медной рясой. Пока я быстро прохожу мимо лотка, продавец еще раз повторяет свой слоган, как на прослушивании.
— Я считала, что все ваши фильмы — гимн любви, — говорит Гала.
Я потерял нить разговора. Последнее время со мной это случается все чаще. Все из-за людей. Толпы меня приводят в смущение. Я знаю, они считают, что их внимание мне приятно. Я ищу веселые лица, но как только нахожу, мне хочется бежать.
— Гимн любви, — повторяет Гала.
Внезапно я сожалею обо всем мероприятии. Зачем я договорился встретиться с ней на шумной Кампо-де-Фьори?[149] О господи, боюсь, что я знаю: похвастаться ею, естественно. И она тоже это знает.
— Я имею в виду, любви к конкретной женщине.
— Вашей супруге.
— Джельсомине.
— Конечно, она изумительная!
Я смотрю в глаза голландской девушке. Она искренне так считает.
— Это она обратила мое внимание на тебя.
— Джельсомина?
Мы сворачиваем на боковую улочку и выбираем столик на углу Пьяцца Фарнезе,[150] укрытый от посторонних взглядов ящиками с растениями. Во время нашего разговора я ее рисую, но ни разу она не получилась такой выразительной, как на картинке, которую я нарисовал по следам своего сна. То, что я увидел ее во сне, ее восхитило, нет, даже больше, поразило. Сначала она не может в это поверить, но я показываю рисунок, который у меня в кармане. Она рассматривает его молча. На миг мне кажется, что она вот-вот заплачет, но вместо этого она вскакивает. Хочет уйти, не сказав ни слова. Я хватаю ее за руку, но она не подчиняется, и, чтобы удержать ее, я начинаю умолять с тем жаром, с которым я обычно прогоняю других актрис.
— Теперь вы во мне разочаруетесь! — восклицает Гала, качая головой.
Эта мысль настолько выбивает ее из колеи, что она не понимает, что вся ситуация говорит об обратном.
— Наша ночная встреча настолько важнее этой, настоящей. Мне не следовало приходить. Зачем вы меня пригласили?
— Жареные цыплята! — говорю я первое, что приходит в голову, — римский деликатес, — и я тут же заказываю две порции.
Я привык, что люди смеются над моими шутками. При первом подозрении, что я говорю что-то смешное, они хлопают по коленям и хватаются за бока, Гала — нет. Она продолжает озабоченно взвешивать все «за и против» нашей встречи. При этом она мне напоминает персонажа из комикса, изо всех сил бегущего по воздуху, вися над бездной.
Приносят цыплят. Я отламываю ножку. Прежде чем укусить, я быстренько целую цыпленка.
— Что вы делаете? — изумляется Гала, и я начинаю говорить о моей бабушке в Кастельротондо, рассказавшей мне сказку о цыпленке, который на самом деле был принцем.
— Это как принц-лягушка, — объясняю я, — только с перьями. Я был маленький. В тот вечер мы ели курицу, и у меня сильно разболелся живот. Я страшно испугался. Подумал, что то, что я съел, внутри меня начало превращаться в принца. С тех пор я предпочитаю осторожность.
И тут Гала оставляет свою сдержанность. Она ставит локти на стол и покорно запускает пальцы в птицу.
— Я только говорю о том…
Она подносит ножку ко рту, открывает рот и выполняет тест, который я провожу, не задумываясь, с пяти лет, совершенно естественно, не для того, чтобы произвести на меня впечатление, а словно она только что научилась от туземца полезному местному обычаю. Ее губы блестят от жира. Гала высовывает кончик языка, чтобы слизнуть подливку, капнувшую на подбородок. Потом продолжает говорить.
— …Как это ни странно, образы из подсознания бывают часто более реальными, чем впечатления, оставленные на сетчатке глаза.
Влюбился ли я с первого взгляда? Думаю, нет. Возможно, так кажется по этой сцене. Но я-то знаю себя. Мне не хватает сдержанности северных мужчин, сначала и прежде всего я хочу с ней переспать. Лучше всего сразу. Я уже записываю ее имя большими буквами с завитушками внизу длинного списка, который я с большим трудом достаю из пыльного нижнего ящика своей жизни. Но как только я представляю себе, как записываю ее в ряду моих побед, так бумага рвется под моими пальцами. Она кажется такой нерасчетливой и открытой, что похоть крошится под давлением моей нежности.
Я даю ей говорить. Гала — блистательна, умна и полна жажды жизни. Я узнаю и понимаю ее неуверенность, но в то же время она так свободно ведет разговор, что мои сомнения увеличиваются. Кроме того, я чувствую обычную горечь старости под молодым взглядом. Гала смотрит на меня не мигая. Ее взгляд, манящий и пронзительный, заставляет меня сжиматься, так что я начинаю ползать в своем слишком широком теле, как младенец в люльке, ищущий с чем бы поиграть.
Я нахожу это в коже вокруг ее глаз. Она плоха. Наверное, из-за того, что она слишком часто использует тяжелый, но малоэффективный театральный грим. Гала потеет, чуть-чуть. Пока мы разговариваем, тушь расплывается от жары и собирается в морщинках в уголках глаз.
Я обмакиваю свою салфетку в воду и провожу по ее щеке. Это первое наше прикосновение. Я продолжаю, но слишком робко. Гала берет у меня салфетку и без лишних вопросов вытирает грязь со своего лица. Потом я открываю коробочку с акварелью, которую всегда ношу с собой, чтобы рисовать. Смешиваю на блюдечке немного сиены[151] и кармина.[152] Добавив масла, стоящего на столе, смешиваю все в кашицу. Достаю позолоченную кисточку, подаренную Джельсоминой на мое шестидесятилетие, из футляра и наношу маленькими мазками полученный оттенок вокруг ее глаз.