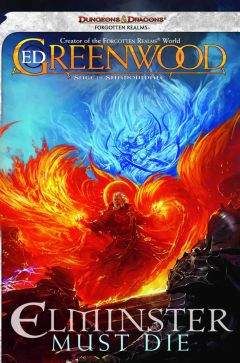Мартин Винклер - Женский хор
— Играли в доктора…
— Вот именно.
Я ткнула вилкой в кусочек рагу.
— Как давно вы не пользуетесь зажимом Поцци?
— Точно не знаю, но не меньше десяти — двенадцати лет. Это произошло примерно в то время, когда я начал устанавливать спирали нерожавшим. Вначале мне было жутко страшно.
Ему было страшно? У него такой вид, как будто он ничего не боится.
— Почему?
— Это было «неправильно». Мне внушали, что так нельзя. В соответствии с догмой нерожавшая женщина «больше подвержена инфекциям». Установить ей спираль — все равно что разместить в ее матке заряд динамита. Напротив, женщина с детьми считалась более крепкой, более сильной. Понимаете, насколько эта тема была идеологической?
— Да, совсем не научной…
— Пока во Франции продолжали утверждать, что спирали являются источником инфекции, в Великобритании или в развивающихся странах, где вплотную занялись поиском самых простых, самых дешевых и наименее опасных методов контрацепции, уже знали, что инфекция передается от партнера и спираль тут совершенно ни при чем. Вы хорошо читаете по-английски, не так ли?
— Да. Это одно из немногих преимуществ моих смешанных корней…
Он наградил меня отеческой улыбкой:
— Не такое уж малое преимущество. Оно все меняет. У вас есть свободный доступ к медицинской информации, опубликованной на языке научного сообщества. Во Франции на протяжении очень долгих лет врачи презирали все, что написано не на французском языке, и даже сегодня многие французские врачи не читают по-английски. Это еще больше запирает их в рамках догм. Когда какая-нибудь шишка говорит, что спираль — это опасно, все его подпевалы принимают это за евангельскую истину. Никому и в голову не приходит с этим поспорить. Это касается не только гинекологии. Возьмите облегчение боли: несколько лет назад на собрании по постоянному образованию кадров я подчеркнул, что морфин и другие болеутоляющие используются во Франции слишком редко. Один тип поднялся и возмущенно сказал, что я говорю глупость, что все врачи облегчают состояние своих пациентов. Другой воскликнул: «Это ты говоришь глупость! Они не облегчают состояние даже своих коллег!» — и объяснил, что недавно ему сделали операцию на колене, и он промучился всю ночь после операции, потому что анестезиолог не дал никаких распоряжений по этому поводу. Ему пришлось самому прописать себе обезболивающее и отправить в аптеку свою жену. Он добавил: «Но я заставлял своих пациентов страдать, так что я это заслужил». Я спросил у него, почему он так говорит. Он ответил (он гастроэнтеролог), что выполняет колоноскопию[33] уже двадцать лет и что первые десять лет он выполнял ее без обезболивания. Он вводил пациентам в прямую кишку фиброскоп и проталкивал его вверх без предварительной анестезии. «Страдали все, а я страдал оттого, что мучил их», — сказал он. И добавил: «Десять лет назад я спросил у анестезиологов, нельзя ли проводить эту процедуру под общим наркозом или хотя бы под нейролептаналгезией[34], чтобы пациенты дремали и не мучались. Он ответил, что да, конечно, можно. С тех пор больше никто не мучается, а я провожу колоноскопию гораздо более тщательно. Прежде, понятное дело, я всегда торопился, старался закончить поскорее».
— Не понимаю… зачем он ждал десять лет, чтобы сменить метод?
Карма покачал головой:
— Я спросил. Он ответил: «Потому что меня учили делать так»…
Он отодвинул тарелку, встал и налил в чашку кофе.
— Он учился во Франции в конце семидесятых. В то время в ходу еще были такие ужасные фразы как: «Облегчение боли затрудняет постановку диагноза». Специалисты с пеной у рта доказывали, что у маленьких детей мозг недоразвит, следовательно, если они не плачут, когда им делают укол или подвергают другим болезненным процедурам, это значит, что им не больно. В 1976 году я поехал навестить друзей в США. Не в Нью-Йорк и не в Бостон, а в Миннеаполис, штат Миннесота. У одного из родственников был рак желудка, ему сделали операцию. В то время я только учился на врача. Я считал, что после операции на желудке человек должен быть прикован к постели, мучиться от боли, все его руки должны быть утыканы трубками, трубки должны выходить из всех его отверстий. Этого человека я немного знал и предложил его навестить, чтобы немного отвлечь от мучительных будней. Войдя в его комнату, я увидел мужчину в шелковом халате, который по-турецки сидел на кровати и играл в шахматы со старшим сыном. Я подумал: «Ему еще не сделали операцию, поэтому он так и выглядит». Я задал ему вопрос, и он ответил: «Меня прооперировали три дня назад, а из больницы я вышел позавчера». Он распахнул халат, чтобы показать мне свой шрам. Я спросил: «Вам совсем не больно?», и он, широко улыбаясь, ответил: «Совсем. Несколько часов после операции мне давали морфий». В то время во Франции мои учителя утверждали — и кем я был, чтобы в этом усомниться? — что давать морфий больным раком опасно, поскольку это может превратить их в токсикоманов, и несли всякую подобную чушь. Можете себе представить, что во Францию я вернулся жутко разгневанным. Десять лет спустя мы с моим товарищем Бруно Саксом опубликовали одну из самых первых статей об облегчении боли больных раком с помощью морфия. К тому времени англичане, американцы и канадцы уже давным-давно обучали этому своих студентов.
Задумавшись, я встала, чтобы налить себе кофе, но, прежде чем обжечь язык во второй раз за день, спросила:
— Почему мы так сильно отстаем во всем… или почти во всем? Облегчение боли, профилактика рака, восстанавливающая хирургия половых органов…
Осознав, что я только что сказала, я поспешно взглянула на Карму и прочла на его лице недоумение. Но он ни о чем не спросил, нахмурился и вздохнул:
— Французское общество остается феодальным, а медицинский мир является его карикатурным отражением. В семидесятые годы, когда мы с Бруно учились, в ходу была шутка, что факультет Турмана — это такая же пирамида, как Франция в эпоху Людовика XIII! Тогдашний декан факультета, Физингер, вел себя как неразумный монарх; его заместитель, Лериш — да, тот самый, что написал книгу по гинекологии, и которая, к сожалению, продолжает влиять на умы, — был настоящим кардиналом, со своими махинациями, взяточничеством и манипуляциями. У него было два заведующих клиникой, которых прозвали Рошфор и Миледи — она была настоящая гадюка. Впрочем, — он задорно подмигнул, — она ушла в фармацевтику. Разумеется, у них были будущие придворные, которых интересовали исключительно хирургия и специальности, связанные с техникой. Нашими же героями были люди нетипичные, целители, а не властолюбцы. Такие как Ив Ланс, Варгас, бактериолог, обучавшийся в США, как отец Бруно…
— Авраам Сакс, — вспомнила я.
— Да. Я очень сожалею, что не был с ним знаком, — печально признался Карма. — Я совершил ошибку, сбежав из Турмана на несколько лет, а когда вернулся, он уже умер. Но один из наших приятелей занимался с ним акушерством. И поделился с нами тем, что знал.
— Оливье Мансо, да?
Он удивленно посмотрел на меня:
— Ты о нем слышала?
Меня удивил неожиданный переход на «ты».
— Я прочитала предисловие к книге.
— А… — смущенно сказал он. — Надеюсь, ты найдешь время, чтобы пролистать книгу до конца… Предисловие — это лишь неуклюжее изложение мировоззрения. Суть книги в ее содержании.
— Я прочитала уже несколько статей, — сказала я, поднося чашку к губам.
— Какие именно? — с интересом спросил он.
Прикрывшись чашкой, я сделала вид, что роюсь в памяти.
— Межполовая анатомия, искусственное оплодотворение…
— Правда?
— Да.
Казалось, он обдумывал то, что собирался сказать.
— И… что ты об этом думаешь?
— Что мнения, высказанные в этой книге, далеко не… стандартные.
— Во Франции это так, они не стандартные. Но в Великобритании, Голландии, Скандинавии, Северной Америке… Ты уже занималась хирургией половых органов?
— Немного. С Жираром, пластическим хирургом. И с Галло, три года назад, когда была его интерном. Но за сложные операции они не берутся, они только восстанавливают девственную плеву у женщин, у которых, возможно, ее никогда и не было. Исправляют швы или делают сверхчувствительную неовагину, это обратная сторона медали.
Он широко раскрыл глаза:
— И ты хотела бы этим заниматься?
— В том числе, — сказала я, пожав плечами. И потом, с вызовом, глядя ему в глаза: — Да.
— Мммм…
Я ждала, что он задаст мне этот вопрос. Тот, что мне задают постоянно, каждый раз, когда я показываю характер. Но он лишь изобразил смятение, в котором я разглядела и некоторое уважение. Он поднялся, сложил свои столовые приборы в раковину, указал на мои, чтобы я ему их передала, открыл кран и стал задумчиво мыть посуду. Я взяла чистую тряпку и стала молча вытирать вымытые им столовые приборы.