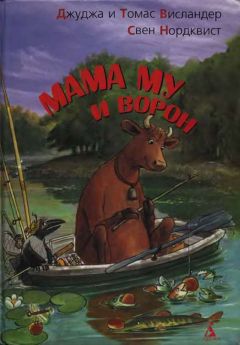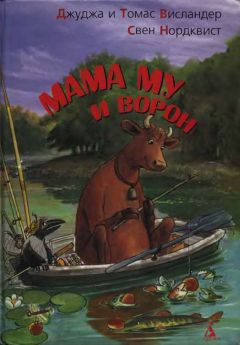Джо Данторн - Субмарина
— Что такое? — спрашиваю я.
Долгая пауза.
— У него что, правда грелка в форме сердца? — выдает отец.
— Ну да.
Он качает головой, поднимает глаза к потолку, поворачивается ко мне и спрашивает:
— И ты ее продырявил?
— Я плохой. Знаю.
Еще пауза. Потом в уголках его губ появляется намек на что-то — кажется, озорство.
— А что еще ты сделал? — интересуется он.
Не уверен, что именно он хочет услышать: признание вины или просто пересказ событий.
— Хм. Положил металлическую ложку в микроволновку.
— У Грэма есть микроволновка? — Папа, кажется, заинтригован.
— Да. На девятьсот ватт, — сообщаю я.
— Девятьсот ватт! — Он весь сияет, я вижу его десны. — Здорово, — говорит он. Кажется, я никогда раньше не видел его таким счастливым. — А он знает про ложку?
— Никто не знает, — успокаиваю его я.
Папа закусывает нижнюю губу и кивает.
Заходит мама и садится рядом со мной на диван. Папа тут же делает мрачное лицо.
Она берет кофе-пресс и поднимает поршень выверенным движением специалиста по контролируемым взрывам. Разливает кофе по чашкам и бросает в каждую по кубику сахара, который падает на дно, как подводная бомба.
— Я как раз рассказывал Оливеру, что в ситуациях вроде этой… — Папа замолкает и берет кофе. Интересно, сколько раз ему приходилось бывать в «ситуациях вроде этой». — …очень важно иметь возможность все обсудить.
О да. Мы отлично обсудили мощность микроволновок в ваттах.
Папа держит чашку, сложив пальцы, как пинцет. Обычно он пьет кофе с молоком, но этот новый папа предпочитает черный. Молоко — для младенцев, в самом что ни на есть прямом смысле.
Я любуюсь спокойным горизонтом. Вдалеке, между морем и небом, лежит полоска суши — Девон. Мама с папой прихлебывают из своих чашек. Я смотрю то на нее, то на него. Им нравится пить кофе. Смотрю на маму. Она разглядывает кофе в своей чашке. Перевожу взгляд на папу.
— Думаю, я не ошибусь, если скажу, что всем нам хочется разорвать этот саморазрушительный круг, — говорит папа.
С чего это он?
— У тебя психическое заболевание? — интересуюсь я.
— Оливер! — вмешивается мама. Она не любит, когда ей говорят правду.
— У всех нас был трудный период, продолжает папа, — но сейчас важно обсудить это, как одной семье.
Папа возомнил, что живет в Калифорнии.
— Ха, — ухмыляюсь я и поворачиваюсь к морю.
— Оливер, твой папа хочет с тобой поговорить, — замечает мама. И кладет руку мне на колено. Это совсем не сексуально. Смотрю на нее. Она что-то делает глазами. Я начинаю понимать, что дело скорее в отце, чем в нашей семье. И вспоминаю, что в одной из книг по воспитанию детей была такая глава: «Семейный разговор: может ли конфронтация пойти на пользу?»
— Пап?
— Да.
— На твоем месте я бы очень рассердился.
— Всякое бывает. Главное, что мы честны друг с другом. — Он совершенно неспособен самостоятельно строить фразы. Подозреваю, что я был прав и у него в кармане действительно лежит список фраз, приемлемых в той или иной ситуации.
— Ладно, — говорю я, — как ты себя чувствуешь?
Он начинает медленно кивать головой, точно ему не приходило в голову спросить себя об этом.
— Мне обидно, — отвечает он, — но мы с мамой делаем все, что в наших силах, чтобы преодолеть трудности. — И снова кивки.
— На твоем месте я был бы в ярости, рвал и метал.
— Это деструктивный подход.
— Ну да.
— Мне кажется, нам с твоей мамой надо наконец понять… — начинает он.
Мама вдруг встает. Папа замолкает. Мы оба думаем, что сейчас она скажет что-то важное, но она встает у окна и складывает руки на груди. Папа продолжает:
— Нам надо понять, что у тебя сейчас трудный период. — Он разговаривает с большим абажуром из креповой бумаги, что висит посреди комнаты. Его никто не слушает. На его джинсах бугор в области промежности. — Стресс от экзаменов, разрыв с Джорданой в твоем возрасте это всегда тяжело. Мы с мамой понимаем, почему ты так остро все воспринял.
Мама вдруг оборачивается, выставив руки перед собой. У нее серьезный вид.
— Ллойд, — выпаливает она, — возьми себя в руки.
Ее глаза широко раскрыты. Она вот-вот заплачет. Папа то скалит зубы, то выпячивает губы. Он качает головой.
— Опять все то же самое, — говорит она.
— Все то же самое, — повторяет он.
Они общаются посредством секретного кода, который появляется у людей, более десяти лет спящих в одной постели. Они раздраженно смотрят друг на друга, но ненависть во взгляде слабеет, когда они замечают, что я наблюдаю за ними. Это всегда больше всего разочаровывает меня в родительских ссорах: как только я подхожу достаточно близко, чтобы видеть белки их глаз, страсти тут же ослабевают. Папа поправляет очки на носу. Мама принимается часто моргать. А им всего-то и нужно как следует выпустить пар.
Решаю сыграть свою роль.
— Не могу так больше! — кричу я. — Вы мне всю жизнь испортили! — Я выбегаю из комнаты и хлопаю дверью. Резная заглушка для двери мне не помеха. Я делаю глубокий вдох и добавляю, на удачу: — Ненавижу вас обоих! — И громко топаю на нижней ступеньке, чтобы они подумали, будто я убегаю наверх в комнату. После чего на цыпочках крадусь по линолеуму и встаю, прислонившись ухом к прохладной двери.
Они разговаривают, не повышая голос.
— О боже, — это папа.
— Ллойд, ты должен так злиться, а не он.
— Я очень зол, — возражает он, но голос у него совсем не злой. Пауза. — Я очень зол, — повторяет он.
Я почти ему верю.
— Ты знаешь, что я наделала.
— Знаю. И готов жить с этим грузом, — сообщает он. Мой папа — грузовой корабль.
— Я хотела это сделать, — продолжает она. Хотела. И до сих пор сердита на тебя.
— Я расстроен, — отзывается он, — я зол.
— Опять двадцать пять.
Они снова замолкают — возможно, для того, чтобы пристально взглянуть друг другу в глаза, или поцеловаться, или подраться, или снять с себя что-нибудь.
— Помнишь, что я сожгла? — спрашивает она.
— «Скрипичные сонаты и партиты» Баха в исполнении Иоанны Мартци.
— Ты помнишь, — удовлетворенно говорит она, точно он вспомнил, что у них годовщина.
— Это были прекрасные пластинки.
— Я очень разозлилась.
— Знаю. Я заслужил.
— Ты меня до сих пор ненавидишь? — интересуется она.
Пауза.
— Я эту ненависть скрываю, — отвечает он.
— Понятно.
— Делаю вид, что не чувствую ничего такого.
— Очень мило.
— Но на самом деле чувствую.
Я знаю.
— Чувствую.
Апофеоз
Я оставляю их в надежде, что они поругаются и потом потрахаются. Иду наверх и думаю о том, как можно было бы переиначить вчерашнюю жалкую конфронтацию. И представляю эту встречу как приключенческий фильм с элементами экшена. Грэм будет циклопом. Мои родители — неразумными детьми. Я в роли себя самого. В финальной сцене я бью Грэма локтем в глаз, появляясь из окна своей спальни. Звук такой, как на пляже, когда я напрыгивал и давил выброшенных на берег медуз.
Потом представляю вчерашний вечер как романтический фильм, только в нем больше страсти, нелегальных китайских фейерверков и еще мистическая сюжетная линия, связанная с бриллиантом.
Потом рисую папу в образе оборотня с волосатой грудью, как у величайшего валлийского футболиста Райана Гиггса. А потом принимаю решение.
Я встаю, тянусь через стол и открываю задвижку своего подъемного окна с одним стеклом. Сажусь на стол, чтобы приподнять нижнюю часть рамы. Поддев ее плечом, поднимаю до конца; окно застревает на пол-пути, как сломанная гильотина.
Я сажусь на подоконник, спустив ноги за окно, на неровную серую стену. Ветер треплет челку на лбу. Смотрю вниз, на розовый куст, и прикидываю, смягчит ли он падение. Или можно нацелиться в старый желоб для угля и безопасно скатиться на груду дров. Возвращаюсь в комнату и беру лежащий на столе дневник. Первая страница вырвана — Джордана взяла ее, чтобы размножить и раздать всем в школе.
Меня охватывает ностальгия. Я должен был знать, что все так закончится. Вот еще один недостаток дневников: они напоминают тебе, как много можно потерять за какие-то четыре месяца.
Первая запись в дневнике начинается так:
Слово дня: пропаганда. Я Гитлер. Она Геббельс.
Я вспоминаю Марка Притчарда. Мы могли бы быть друзьями, если бы не Джордана. Вырываю страницу и позволяю ей выскользнуть из пальцев. Ее подхватывает ветер и ударяет о стену дома; какое-то время она кружится у окна спальни моих родителей и наконец улетает вниз по улице. Я понимаю, что нужен уничтожитель для бумаг. Пусть птички возьмут промокшие листки моего дневника, разрезанного на полоски, и утеплят ими свои гнезда. Хочу, чтобы мамы-птицы отрыгивали пищу для птенцов и маленькие кусочки полупережеванной блевотины случайно капали на мое имя.