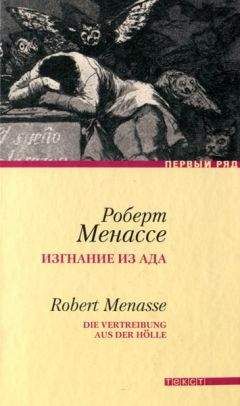Столица - Менассе Роберт
— И что написали из Маутхаузена?
— Вот: у них есть только список уцелевших в Маутхаузене, да и то неполный, что объясняется хаосом после освобождения в мае сорок пятого. Уцелевшие, которые могли немедля покинуть лагерь, обращались за помощью и за документами в разные ведомства и учреждения, иначе говоря, все происходило децентрализованно. А из неполной базы данных, какой располагает мемориал Маутхаузен, визуализирована лишь малая часть, да и тут полной уверенности нет. Людей, адреса которых у них имеются, они каждый год приглашают на Праздник освобождения. Те, что годами не откликаются на приглашение, вероятно, скончались или же просто переехали. Директор мемориала Маутхаузен опять же направил нас — удивительное дело! — в Яд Вашем, но еще и в Фонд Шоа Стивена Спилберга. Любопытный отсыл! А в приложении они прислали текст маутхаузенской клятвы, напоминая нам, Комиссии, что на нее ссылается Римский договор. Директор написал… секунду, ага, нашел: Лозунг «Освенцим не повторится никогда!» сомнителен, потому что ставит во главу угла один лагерь, то есть, по сути, вводит иерархию лагерей, а клятва Маутхаузена универсальна, потому-то она и стоит у истоков проекта европейского единения, хотя сегодня об этом уже не услышишь.
Мартин кивнул:
— Так ведь именно по этой причине мы… — Он осекся, потом продолжил: — Мы используем Освенцим как шифр, но, в сущности, он правильно понял нашу идею. Кстати, Спилбергу ты написал?
— Да.
— Ответа нет?
— Есть. Короткий и четкий. Существует только список уцелевших, которые изъявили готовность рассказать историю своей жизни перед камерой. Но им неизвестно ни сколько всего жертв Шоа еще живы, ни даже число поныне живущих свидетелей-информантов. И снимали они тех, кто добровольно согласился. Архив находится в свободном доступе. Подробности можно узнать в…
— Яд Вашем.
— Точно. Иными словами, нам так ничего и не известно.
— В самом деле странно, — сказал Мартин. — С ума сойти. Нацисты заносили каждого депортированного в концлагерь в списки, с именами, личными данными, датой рождения, профессией, последним адресом проживания, нумеровали их, постоянно пересчитывали, убитых аккуратно вычеркивали из списков… а после освобождения все растворяется в воздухе…
— Нацистская бюрократия!
— Но вся бюрократия вообще? Надо было всех переписать, чтобы…
— Нет, — сказал Богумил. — Многие не хотели или не могли вернуться в те страны, откуда их изгнали или депортировали. Никого не интересовал еще один перечень «displaced persons», перемещенных лиц. Им оказали первую помощь и отпустили; кто мог идти, ушел.
— Поверить не могу, — сказал Мартин. — Яд Вашем восстанавливает имена всех убитых в лагерях, но не интересуется теми, кто уцелел? Поверить не могу. Такой список должен существовать, но, как видно, кому-то важно держать его в тайне.
— Come on [128], Мартин, — сказала Кассандра, — нет тут никакого заговора. Какой смысл его устраивать? Есть множество причин, по которым мы не знаем числа уцелевших. Они не могли оставить адрес, когда уходили после освобождения. Ведь его просто не было. А когда позднее начали где-нибудь заново строить свою жизнь, не писали в прежний концлагерь, не сообщали, где их теперь найти… пожалуйста, Мартин, пойми ты наконец, уцелевшие лагерники вовсе не гимназисты! О’кей, некоторые сообщали о себе в мемориалы, выступали как свидетели эпохи, рассказывая о пережитом, одни ездили на торжества в честь освобождения, другие приезжали спустя десятилетия, с внуками, таков был их триумф над Гитлером, третьи вообще не желали более иметь к этому касательства, четвертые скончались вскоре после освобождения, они хотя и уцелели, но после войны внезапно умерли своей смертью, а иные стыдились и не хотели снова попасть в картотеку или молчали, видели, что никому неохота слушать их историю, даже в Израиле их не слушали, надоедливых евреев с бойни, — так как же все это соберешь и систематизируешь?
— У нас есть проблема, — сказал Богумил. — Списком, который хотела получить Ксено, мы не располагаем. Докапываться до причин нет смысла. А вообще-то нашу проблему решить несложно. О чем, собственно, идет речь? Об истории Европейской комиссии. Ты говоришь, она возникла как ответ на Холокост, который никогда больше не должен повториться, мы гарантируем мир и право. О’кей, но, чтобы это подтвердить, нам вовсе не нужен полный список еще живых жертв. Ты что, намерен построить их на поверку на улице Луа? И пересчитать?
— Прекрати! Угомонись, наконец!
— Некоторые уцелевшие в Шоа известны, — сказала Кассандра, — давайте составим список и посмотрим, кто из них может выступить с обращением на нашем торжестве…
— А Евростат вы запрашивали?
— Зачем?
— Ну, Богумил, как это зачем, — сказал Мартин. — У нас есть Европейское статистическое ведомство. Они располагают статистическими данными обо всем. Знают все. Знают, сколько сегодня в Европе отложено куриных яиц. И наверняка им известно, сколько жертв Холокоста до сих пор проживает в Европе. Кассандра, пожалуйста, сделай запрос, и мы продолжим разговор, когда придет ответ.
Кассандра записала в блокнот «Евростат», посмотрела на Мартина:
— Я ничего не хочу сказать, но почему тебе нужна именно статистика, именно число людей, которых однажды уже делали номерами?
Она расстегнула кнопку на манжете блузки, закатала рукав, написала ручкой на предплечье 171 185, протянула руку к Мартину.
— Что… Что это?
— Дата моего рождения, — ответила Кассандра.
Мартин Зусман часто работал до семи, до половины восьмого. И его не мучила совесть, когда в этот день он ушел из конторы в половине пятого. Ничего спешного не было, а обычные дела, которые, возможно, поступят в ближайший час, подождут и до завтрашнего утра. Дома шаром покати, ни крошки съестного, да он и не проголодался. Решил по дороге к метро выпить пива, в пабе «Джеймс Джойс» на улице Архимед. Там катили бронемашины. Он прошел немного дальше, к бульвару Шарлемань, там и по улице Луа тоже громыхали военные машины, чья коричневато-зеленая лакированная сталь словно бы поглощала свет вечернего солнца. Кругом солдатские патрули, полиция направляла автомобили в объезд и указывала прохожим узкие коридоры меж решетками ограждения, ведущие к станции метро, причем прямой спуск возле здания Совета был перекрыт.
Ситуация напомнила Мартину виденные когда-то фильмы, то ли «Зет», то ли «Пропавшего без вести» [129], и документальные ленты по телевизору. Телевизор он смотрел редко. Но когда бессонными ночами пробегал по каналам, останавливался всегда на исторических документальных фильмах, история интересовала его больше, чем беллетристика, особенно его увлекали исторические кинодокументы, старая кинохроника, а также любительские съемки, где-то найденные и вмонтированные в документальные ленты, меж тем как звучный голос многозначительно рассказывал об ушедших временах. Сейчас у него в голове мельтешили такие вот кадры: танки на Вацлавской площади после подавления Пражской весны, бронемашины на улицах чилийского Сантьяго после путча Пиночета, военные на улицах Афин после путча полковников, дрожащие кадры любительских фильмов на восьмимиллиметровой пленке и черно-белые эпизоды давних теленовостей, Мартин не мог отделаться от впечатления, что этот исторический материал проецировался сейчас на улицу, где он шел, и создавал виртуальную реальность, для которой ему’ недоставало только игровой консоли. Точно большие жуки, бронированные машины ползли по очищенной от транспорта дороге, немногочисленные прохожие жались к домам и решеткам, а потом исчезали, спускаясь в метро.
Мартин не боялся, помнил, что сейчас проходит консультативная встреча глав европейских государств и правительств. И это — сопутствующие защитные меры. Он зашел в паб «Джеймс Джойс», у стойки толпились, разговаривая, люди в костюмах, ослабившие галстуки. Happy hour [130].