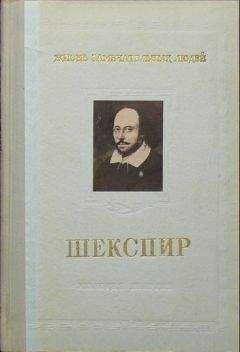Эдуард Кочергин - Крещённые крестами. Записки на коленках [без иллюстраций]
— До твоей родины всего пять остановок, — улыбаясь, сказала она, смягчая в словах все твёрдые звуки.
Сквозь глазок в ледяной проталинке окна я впервые после двенадцати лет отсутствия в Питере увидел оледенелую белую Неву с ещё одним громадным мостом напротив нас и Петропавловской крепостью с левой стороны. Таких огромных просторов внутри городов я не видел нигде, начиная с моей детприёмовской Сибири и кончая колонтайской Эстонией. Первое ощущение странное — какой-то звон в ушах от этого громадного пространства. Матка что-то говорила мне по-русски, но я, шарахнутый всем увиденным, плохо соображал. Единственное, что запомнил из сказанного в этом замершем, пустом трамвае:
— Сын, будь осторожен, никому не говори, что с нами было. В этой стране легче посадить человека, чем дерево.
Я вспомнил капитаново наставление, и мне снова стало зябко.
Петроградская родина оказалась более ласковой, знакомой, привычной, чем давящий, начальственный центр города. Не все дома восстановили после войны, были заметны следы бомбёжек, но по улицам ходили нормальные человеки, некоторые из них даже улыбались, глядя на нас с матерью. Рыжая тётенька со сказочным именем Ядвига открыла дверь на третьем этаже старинного дома на Ропшинской улице и, увидев меня, что-то залепетала по-своему, часто повторяя: «Матка Боска, Матка Боска…»
Просторная комната о двух окнах с печью-камином белого кафеля в углу была чисто убрана. От натопленной печи шло тепло. Под старой лампой с тремя крылатыми пацанятами, держащими по три подсвечника, стоял овальный стол, накрытый к обеду. Среди простой белой посуды возвышался старинный подсвечник со свечой. В правом углу, как в деревенских домах, висело изображение незнакомой мне Божьей Матери, которое Ядвига называла Маткой Боской Ченстоховской. На угловом столике под ней в высокой тёмной вазе стоял букет каких-то красивых метёлок. Тётки почему-то величали эти метёлки пальмами. За высоким широченным шкафом была спрятана кровать, а против неё, у другой стены, размещалась оттоманка, покрытая красивой полосатой зелёно-красно-чёрной шерстяной дорожкой. Простенок между окнами занимал шкаф со старинными книгами и бюстом какого-то польского поэта. Для меня всё увиденное было настолько неожиданным, что я запомнил это на всю жизнь. Такие картинки я видел только в кино, и то редко, — нам больше показывали фильмы про революцию и войну. Комната принадлежала тётке Ядвиге. Наша с маткой квартира на четвёртом этаже после посадки моих родичей отошла к «прокурорам». И теперь нас по первости приютили питерские «пшеки».
Потом с «дзень добры» в комнату вошёл высокий старик, оказавшийся моим крёстным. Пока матка с Ядвигой хлопотали на кухне, дядька Янек рассказал мне, как я путешествовал под столами в его мастерской.
Обед был сказочным. Крёстный Янек зажёг свечу и поднял рюмку за амнистию — так я перевёл для себя сказанные им слова. Половину из того, что они говорили по-польски, я не понимал, в голове у меня всё перемешалось. Я ещё по-настоящему не соображал, в каком мире нахожусь, чувствовал только какое-то стеснение между собою и матерью. Мы были подельниками по несчастью. И сейчас осторожно приглядывались друг к другу. Наверное, она тоже до конца не верила в то, что случилось.
Я отключился прямо за столом. Тяжёлый день и вкусная еда — пельмени в свекольном бульоне и чечевица с морковью — сделали своё дело. Матка уложила меня на оттоманку, и я сразу же полетел в пропасть. Как долго я летел, сказать не могу. Помню, что снова очутился на площади Урицкого, в Главном штабе, откуда нас с маткой Броней выкидывают прямо в сугроб из фараоновой парадной два амбала-близнеца. Мы поднимаемся и бежим по замороженной площади к трамваям, в сторону крепости со шпилем и корабликом на нём. Добежав до середины громадного плаца, у столба с крылатым дядькой мы услышали какой-то шум за спиной. Оглянулись — за нами погоня. Целая армия великанов-мусоров — в древних военных доспехах, с красными звёздами на тульях фуражек, вооружённая щитами, мечами, копьями, топорами со стен арки Главного штаба — мчится на нас. Впереди на гигантском гранитном столбе летит дежурный капитан с огромными чёрными крыльями за спиной и чёрным мечом в руке. Он громко кричит матке:
— Ты что ему пшекаешь? Ты с ним по фене, по фене!..
Мы прибавили скорость.
Я снова оглянулся в страхе — с верхотуры арки прямо на нас сорвалась шестёрка чёрных лошадей, запряжённых в древний воронок, погоняемая лупоглазым прокурором. А от стен дворца отделились многочисленные колонны и вместе с фонарями стали окружать нас, сжимая пространство. Мы побежали ещё быстрее по оставшемуся свободным коридору к спасительному золотому кораблику. Вдруг капитан со своего верха приказал:
— Стой! Стрелять буду!
И все заиндевелые вертухаи на крыше царского дворца враз повернулись к нам, подняли длинные винтовки и щёлкнули затворами.
Я рухнул на колени в снег и, перекрестившись дланью, закричал:
— Матка Боска! Матка Боска! Спаси и помилуй!
После чего в ужасе и поту проснулся. Меня трясло. Надо мною стояла матка Броня и говорила мне по-польски:
— Со z tobą, mój drogi synku? Co ty krzyczysz? Wszystko bądzie dobrze. Jestes' jedynym mążczyzną w rodzie, i powinieneś żyć[19].
Приложение. Путешествие по эсэсэрии
(В бумажной книге содержатся схемы железных дорог [на форзацах; в начале глав; в приложении с разметкой «Маршрут „бега“ длиною в шесть лет»] количеством 8; не оцифрованы. В приложении содержатся фотографии тех времен и фотокопии страниц с текстами песен о Сталине; фотографии не оцифрованы [приведен их перечень, для чего введена нумерация], тексты песен оцифрованы и приведены полностью. — Прим. верстальщика.)
1. Бронислава Одынец. Чита, 1921
2. Степаныч. Детприёмник НКВД, посёлок Чернолучи. 1945
3. Загрузка самолета
4. По ладожскому льду
5. Дети из интерната № 7 на прогулке. Ленинград
6. Старики
7, 8. Начало войны. Ленинград
9. За едой
10. Железнодорожная водокачка
11, 12. Пути-дороги
13. Очередь за пайкой
14. Сортировочная станция
15. На перроне
М. Инюшкин
ОТ КРАЯ ДО КРАЯ…
От края до края, но горным вершинам,
Где вольный орел совершает полет,
О Сталине мудром, родном и любимом
Прекрасную песню слагает народ.
Летит эта песня быстрее, чем птица,
И мир угнетателей злобно дрожит:
Ее не удержат посты и границы,
Ее не удержат ничьи рубежи.
Ее не страшат ни нагайка, ни пули,
Звучит эта песня в огне баррикад,
Поют эту песню и рикша и кули,
Поет эту песню китайский солдат.
И песню о нем поднимая, как знамя,
Единого фронта шагают ряды.
Горит-разгорается грозное пламя,
Народы встают для последней борьбы.
А мы эту песню поем горделиво
И славим величие сталинских лет, —
О жизни поем мы прекрасной, счастливой,
О радости наших великих побед.
От края до края, по горным вершинам,
Где свой разговор самолеты ведут,
О Сталине мудром, родном и любимом
Прекрасную песню народы поют.
16. Старший стрелочник