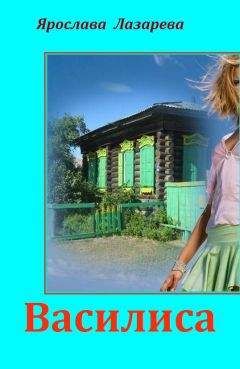Норман Льюис - От руки брата его
— Привет, мистер Джонс.
Джонс круто обернулся и настороженно попятился к стене, чтобы встретить того, кто его окликнул, лицом к лицу.
— Не узнаете, мистер Джонс? Это я, Бейнон.
Из тьмы выступил высокий, чуть сутулый парень в черном кожаном костюме мотоциклиста. При свете далекого фонаря поблескивали медные застежки. Лоб, нос и челюсти вызывающе выступали из-под шлема.
— Неужто опять Бейнон? Ты меня прямо преследуешь. Только не говори, что ты прикатил сюда за мной из Кросс-Хэндса.
— Я получил работу на перегонном заводе, мистер Джонс. Вчера вижу, вы идете мимо, вот я и подумал, хорошо бы нам опять встретиться да потолковать.
— А что это у тебя с лицом, Бейнон? Оно совсем другое. Тебя просто не узнать.
— Это зубы, мистер Джонс. Мне вставили зубы. Оттого и лицо не такое тощее. Моя подружка меня заставила.
— Подружка, вот как?
— У нее родители итальянцы. У них тут кафе. Ее папаша обещал принять меня в дело, когда мы поженимся. И мопед у меня есть.
— В общем, я смотрю, ты стал на ноги. Совсем не то, что раньше, на «Новой мельнице», а?
— Это точно, мистер Джонс. Да ведь стоит попасть в колею, так уж не свернешь. Вот в чем беда. Никак не свернешь.
— Но ты-то свернул, Бейнон. Та жизнь была совсем не подходящая для молодого парнишки. Все один да один. Это очень нездорово.
— Я видел, вы проходили мимо кафе, мистер Джонс. Несколько раз видел. Хотел с вами заговорить, да не решался. Все откладывал.
— А почему, собственно? Пусть у нас и было с тобой два-три не очень приятных разговора — что из этого?
— Мне надо бы вам кой-что сказать, да только не знаю, как вы к этому отнесетесь. Я прямо извелся. По ночам не сплю.
— Ну, что еще ты затеял, Бейнон? Выкладывай.
— Я не про то, что я сделал, мистер Джонс. А про то, чего не сделал. Это насчет Ивена Оуэна.
— Почему-то я так и подумал. Ну, что там у тебя?
— Не больно я верю, что он умер.
— Если вспомнить твои показания, странно мне слышать такие слова.
— Может, он и умер. Я не говорю, что нет. А может, и не умер. Сам не знаю. Только лежу иногда ночью и думаю про Брона Оуэна — как он гам в Нортфилдсе?
— Сдается мне, это похоже на угрызения совести.
— Его там долго продержат, мистер Джонс?
— Лет тридцать. Наверно, до самой смерти.
— Я думал, за убийство теперь дают десять лет.
— Это если преступник — нормальный человек. А Оуэн — сумасшедший.
— И его никак не отпустят раньше?
— Мало вероятно.
— Долго-то как… Тридцать лет… даже представить невозможно, правда?
— Да, трудно представить, — согласился Джонс.
— Жуть. Прямо жуть. Тридцать лет. И не хочешь, а пожалеешь.
— Жалостью ему не поможешь, Бейнон. Надо полагать, тогда ты не соврал, что видел, как Брон Оуэн ударил брата?
— Честное слово, видел, мистер Джонс. Но я не сказал, что видел, как Брон его убил. Этого я не сказал. Я не знаю наверняка, что он умер. Потому я и хотел с вами поговорить.
— С точки зрения закона он умер. Вдова унаследовала его имущество, а брата посадили в Нортфилдс за убийство. Что тут еще скажешь!
— Мистер Джонс, мне кажется, я его видел на другое утро после той ночи, когда считается, что брат убил его.
В глухой стене по соседству отворилась дверь, выпустив наружу тусклый луч света и плач младенца.
— Давай-ка пройдемся, — сказал Джонс.
Улица кончалась узким проемом в стене, сквозь него виднелось ночное небо над портом, как всегда отливавшее розовым. В этом воспаленном мареве беспрерывно ныли и дребезжали подъемные краны. Плыли вверх и вниз грузы, хохотали хмельные матросы, гремела музыка — и вдруг все смолкало.
— А почему ты думаешь, что видел Ивена Оуэна?
— Уж не знаю, кто бы еще это мог быть.
— Где это было?
— У дубовой рощи на Пен-Гофе. После того, что случилось на «Новой мельнице», не захотел я там оставаться. Собрал вещички, запер свою будку и пошел напрямик, через Соубридж, к Робертсу, думал, может, у него найдется для меня работа. А когда подходил к дубовой роще, мне показалось, вроде в четверти мили впереди идет мистер Оуэн.
— Так ты видел его или не видел?
— Это был он, мистер Джонс, или уж его призрак.
— А ты, надо полагать, веришь в призраки.
— В Феррипорте — нет, не верю. А на Пен-Гофе верю.
Джонс склонен был согласиться с подобным подходом к потусторонним явлениям.
— Из-за тумана было толком не разглядеть, а все-таки не мог я обознаться. Он вошел в лес, и уж больше я его не видел.
— В это время ты был уже на земле Робертса, так?
— Вроде так, мистер Джонс. Наверняка не скажешь. Там ведь никаких примет нету.
— Одного не пойму, — сказал Джонс, — что же ты до сих пор молчал?
— Я начал было говорить сержанту Бродбенту, да он и слушать не стал.
— И притом ты не слишком огорчался, что Брон Оуэн попал в такую переделку, а?
— Он мне не больно по душе, мистер Джонс. Но это одна сторона, а чтоб его на тридцать лет засадили, такого я вовсе не хотел.
— Ты ревновал к нему. И ненавидел его, да и почти всех ненавидел. Вредный ты был парень, согласен?
— Я теперь не такой, мистер Джонс.
— Лучше поздно, чем никогда.
— Я про себя рассказал родителям моей подружки, все с ними обсудил. Они помогли мне на все поглядеть по-другому. Если я что сделал плохое, в лепешку расшибусь, а исправлю.
— Если ты что сделал плохое, теперь уж не поправишь, поздно. Только мне-то кажется, что ты всегда слишком много фантазировал. Слишком долго жил один, и вечно тебе что-нибудь мерещилось. Случись все это теперь, а не полгода назад, ты бы там, у пен-гофской рощи, никакого Ивена Оуэна не увидел.
— По-вашему, мне все это примерещилось, мистер Джонс?
— Уверен, ведь я тебя знаю. Наверно, тебя мучила совесть из-за тех анонимных писем, а тут еще твое отношение к миссис Оуэн. Вот у тебя нервы и расходились. И стало мерещиться невесть что. Это бывает.
— А тела ведь так и не нашли, верно, мистер Джонс?
— Нет, не нашли и, я думаю, не найдут. И все-таки Брона признали виновным в убийстве. А в дубовой роще на Пен-Гофе тебе привиделся призрак, так-то, приятель.
Джонс пошел в участок и целый час неслужебного времени потратил на докладную записку обо всем, что услышал от Бейнона. Наутро он передал ее по начальству и весь день ожидал, что его вызовет инспектор Фенн.
Вечером, когда он уже собирался домой, сержант вручил ему его докладную записку. Поперек ее инспектор размашисто написал синим карандашом: «Прошу ничего больше не предпринимать». «Прошу» было трижды подчеркнуто.
20
Первый год в Нортфилдсе прошел довольно легко. Брон был пациент тихий, к таким персонал относится благожелательно. Он не доставлял никакого беспокойства, ни на что не жаловался, не писал зажигательных писем, не требовал встреч с начальством, выполнял работу, которую ему поручали. Вскоре ему разрешили свободно ходить по всей территории и перевели в привилегированный блок «А».
Нортфилдс считался не тюрьмой, а больницей для тех, кого к преступлению привела душевная болезнь, но Брон вскоре убедился, что даже и здесь плохо быть явно сумасшедшим. Оказалось, и здесь существует своего рода сословное разделение, почти такое же, что было знакомо пациентам и вне этих стен, одним на радость, другим на беду. На верху здешней общественной лестницы стояли люди сравнительно обеспеченные, спокойные, владеющие собой, внизу — немощные, бедные, безнадежно слабоумные. И те, кто принадлежал к разным слоям, почти не соприкасались. Беспокойные, буйные, «трудные» пациенты жили в плохих условиях, без удобств, точно в казарме, тогда как у привилегированных были отдельные комнаты и им разрешалось иметь кое-какие домашние вещицы. Пролетарские низы смотрели наверх с завистью, аристократическая верхушка относилась к ним со страхом и отвращением.
Но всех их судьба отдала здесь на милость Ее Величества, и все они равно были наказаны безбрачием. Мужчины и женщины (узники и узницы) встречались только на концертах, где были строго отделены друг от друга, а аристократы — еще на балу по случаю рождества. Здесь постоянство выражали взглядами и жестами, обращая их всегда к одному и тому же предмету любви, а непостоянство — обращая те же знаки то к одному, то к другому; этими кивками и улыбками и ограничивалась вся гамма отношений между полами. Во время танцев на рождество, к которым допускались сравнительно нормальные пациенты, можно было осторожно прижаться друг к другу, обменяться записками. Так мотылька любви здесь неукоснительно заталкивали обратно в кокон.
Следуя советам Далласа, Брон быстро освоился, вновь зажил ясной и понятной жизнью, и первое время, которое новички обычно проводят на больничной койке, долгими неделями, а то и месяцами не в силах примириться с тем, что жизнь их так жестоко искалечена, для него прошло незаметно. Одна из первых книг, взятых им в превосходной нортфилдской библиотеке, была «Краткие жизнеописания» Обри; случайно открыв страницу с рассказом о думах и чувствах Джона Хоскинса, заключенного в лондонский Тауэр, он прочел: «… через узенькую щель он однажды увидел ворону, а в другой раз коршуна, и зрелище это доставило ему немалую радость». Брона это ничуть не удивило. Он понимал, что, где бы ни оказаЛся человек, куда бы его ни втиснули, способность радоваться не отнимешь. Свои дни в Нортфилдсе он волен был делить между работой в библиотеке и в саду, и то и другое одаряло его тихой радостью — насколько он вообще способен был радоваться.