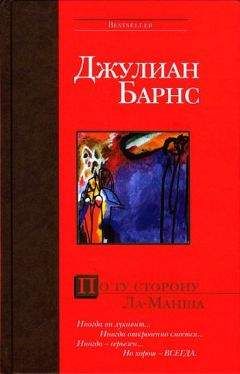Джулиан Барнс - Пульс
Отец хмыкнул, но явно не успокоился. Когда он в очередной раз отправился играть в бридж, я заглянул к матери. Мы сидели на кухне, и я понимал, что она не купилась на мое «проезжал мимо».
— Чаю? Кофе?
— Без кофеина или травяной чай, с тобой за компанию.
— Ну, мне доза кофеина не повредит.
Этого оказалось достаточно, чтобы я сразу перешел к делу.
— Отца тревожит твое состояние. Меня тоже.
— Отец — паникер.
— Он тебя любит. Потому и замечает все до мелочей. Не любил бы — не замечал.
— Да, ты, наверное, прав.
Я взглянул на нее, но она устремилась взглядом куда-то вдаль. Мне было ясно без слов, что она думает о том, как ее любят. Впору было ей позавидовать, но зависти у меня не было.
— Расскажи, что с тобой происходит, только не отговаривайся гормонами.
Она улыбнулась:
— Небольшое переутомление. Медлительная стала, вот и все.
* * *Через полтора года после свадьбы Дженис обвинила меня в уклончивости. Верная себе, она выразилась уклончиво. Спросила, почему меня всегда тянет обсуждать второстепенные проблемы, а не главные. Я ответил, что за собой такого не замечал, хотя большие проблемы зачастую становятся такими большими, что сказать о них можно очень мало, тогда как мелочи обсуждать легче. К тому же некоторые проблемы кажутся нам большими, а на поверку оказываются мелкими, не стоящими внимания. Она посмотрела на меня, как дерзкая школьница, и заявила, что все это очень характерно: характерная попытка оправдать свою природную уклончивость, свое нежелание считаться с фактами и решать проблемы. Так и сказала, слово в слово.
— Хорошо, — сказал я. — Давай говорить начистоту. Давай решать проблемы. У тебя роман на стороне, и у меня роман на стороне. Это признание фактов или нет?
— Тебе просто хочется так думать. Создаешь впечатление, будто у нас ничья, один — один.
И она указала мне на фальшь моего, казалось бы, объективного суждения и на различие между нашими изменами (ее подтолкнуло к неверности отчаяние, а меня — чувство мести), а также подчеркнула, что я, в свойственной мне манере передергивать, ставлю во главу угла сам факт супружеских измен, а не те обстоятельства, которыми они вызваны. Круг замкнулся, и мы вернулись на исходные позиции.
Чего мы ищем в своей второй половине? Душевного родства или различия? Душевного родства в сочетании с различием, различия, но в сочетании с душевным родством? Дополнения к себе? Нет, я понимаю, обобщения бессмысленны, но все-таки. Дело вот в чем: если мы ищем схожести, то рассматриваем только схожесть положительных качеств. А как быть с отрицательными? Вам не кажется, что нас порой влечет к людям с теми же недостатками?
Моя мама. Думая о ней, я теперь вспоминаю фразу, которую бросил отцу, когда он стал распространяться насчет шести китайских пульсов. Папа, сказал я ему, пульс бывает только один: пульс сердца, пульс крови. Самые дорогие для меня родительские фотографии были сделаны до моего рождения. И — спасибо тебе, Дженис, — я действительно стал задумываться, какими были отец с матерью в ту пору.
Вот родители сидят на каком-то каменистом берегу; отец обнимает маму за плечи; на нем пиджак спортивного покроя, с кожаными заплатками на локтях; на ней платье в горошек; взор, устремленный в объектив, выражает пылкую надежду. Вот их медовый месяц в Испании: они стоят на фоне гор, оба в темных очках, так что их чувства выдает только поза: они явно держатся непринужденно, а мама не без лукавства засунула руку в задний карман отцовских брюк. А вот снимок, который, при всем своем несовершенстве, очевидно, много значил для них самих: они где-то в гостях, явно подвыпили, и от вспышки у обоих красные глаза, как у белых мышей. У отца нелепые бакенбарды, у мамы завивка, крупные серьги-обручи, платье в восточном стиле. Ничто не выдает в них будущих родителей. Подозреваю, что это самая ранняя их общая фотография, на которой они впервые оказались в одном пространстве, дышали одним воздухом.
Кроме того, у меня на комоде стоит фотография, где я снят вместе с родителями. Мне лет пять, я стою между ними и жду, когда вылетит птичка, или как там говорилось в те времена, — сосредоточенный и немного ошарашенный происходящим. В руке я сжимаю детскую лейку, хотя не припоминаю, чтобы у меня когда-нибудь был детский садовый набор или интерес — врожденный или внушенный — к садоводству.
Теперь, глядя на этот снимок, я вижу, что мать заботливо смотрит на меня сверху вниз, а отец, улыбаясь в объектив, держит в одной руке стакан, в другой сигарету, — и мне на память приходят слова Дженис. О том, что родители сами решают, какими им быть, пока ребенок еще мало что смыслит, как они создают фасад, за который ребенку хода нет. В ее словах звучала намеренная или невольная желчность: «Ты хочешь видеть в нем Просто Папу. Но „просто папа“, „просто мама“ — это фикция». А потом: «Вполне возможно, что у твоей матери есть какая-то тайна, о которой ты даже не подозреваешь». И куда мне деваться от этой мысли? Даже если провести расследование, которое ничего не даст?
В мамином облике нет ни тени жеманства или беспечности, ни следа — заметь, пожалуйста, Дженис, — ни следа нервозности или драматизма. Молчит она или разговаривает, от нее веет надежностью. К такой женщине идут в трудную минуту. Однажды, когда я был совсем маленьким, она как-то умудрилась раскроить себе ляжку. Ждать помощи было неоткуда. Другая вызвала бы «скорую» или хотя бы позвонила на работу мужу. А мама взяла иголку и какое-то подобие хирургической нити, стянула рану и зашила через край. И сделала бы то же самое для кого-нибудь другого не моргнув глазом. Такой она человек. Если и есть в ее жизни тайна, значит, она кому-то помогла, но держала язык за зубами. Пошла ты в задницу, Дженис, — больше я тебе ничего сказать не могу.
Отец познакомился с мамой, когда только-только окончил юридический. По его словам, ему пришлось разогнать всех ее поклонников. Мама говорила, что разгонять никого не пришлось, поскольку ей все стало ясно с первой минуты. Может, и так, продолжал отец, но они-то этого не знали. Мама любовно смотрела на отца, и я не знал, кому из них верить. Вероятно, так и распознается счастливый брак: когда оба говорят правду, хотя рассказывают взаимоисключающие истории.
Конечно, мое восхищение их семейной жизнью отчасти можно объяснить крахом моей собственной. Возможно, глядя на них, я и решил, что в супружестве больше открытости, чем на самом деле. Как вы думаете, семейное счастье — это талант или везенье? Впрочем, можно и так сказать: везет тем, у кого есть талант. Когда в разговоре с матерью я обронил, что у нас с Дженис сейчас трудный период и мы прилагаем все усилия, чтобы сохранить наш брак, она сказала: «Никогда не могла этого понять. Если тебе по душе твоя работа, она не требует особых усилий. Если тебе по душе твоя семейная жизнь, она не требует особых усилий. То есть иногда нужно постараться, незаметно для другого. Но особых усилий прилагать не требуется, — повторила она. И, помолчав, добавила: — Я ничего не имею против Дженис».
— Давай о ней не будем, — сказал я.
Про Дженис я уже наговорился с ней самой. Если мы что-то и привнесли в наш брак, то уж точно ничего из него не вынесли, кроме законной доли сбережений.
Вы, наверное, считаете — я ведь не ошибаюсь? — что человек, рожденный в счастливом браке, может рассчитывать на создание семьи не хуже среднестатистической — либо в силу врожденной предрасположенности, либо в силу наглядного примера. Но похоже, так не получается. Очевидно, тут нужен пример иного рода, чтобы учиться на чужих ошибках. Правда, отсюда следует, что родители, желающие семейного счастья своим детям, сами должны быть несчастны. Где же ответ? Понятия не имею. Знаю одно: родителей я не виню, да и Дженис тоже.
Мама пообещала мне, что сходит к врачу, как только отец запишется на прием к специалисту по поводу своей анозмии. Отец, как и следовало ожидать, с этим не спешил. У других положение куда хуже, говорил он. Ведь у него сохранились вкусовые ощущения, а для других больных анозмией что обедать, что жевать картон или пластик — разницы нет. В Интернете он нашел описание самых тяжелых случаев, сопровождающихся обонятельными галлюцинациями. Подумать только: свежее молоко вдруг начинает отдавать кислятиной, шоколад вызывает рвотные позывы, мясо видится кровавой губкой.
— Если ты вывихнешь палец, — возражала мама, — тебе же не придет в голову отказываться от медицинской помощи только потому, что у кого-то другого перелом ноги.
Они пришли к компромиссу. Записались на очередь, преодолели бюрократические препоны и в конце концов попали на томографию в течение одной и той же недели. Каковы, интересно, были у них шансы, подумал я.
* * *Сдается мне, нам не дано с точностью знать, где заканчивается наш брак. Мы помним определенные этапы, переходные моменты, размолвки — несовместимости, которые вырастают до таких размеров, что их невозможно устранить или пережить. Как мне сейчас представляется, снося нападки Дженис (или, как она выражалась, те периоды, когда я переставал ее слушать и пропадал без вести), я и не подозревал, что это на самом деле было началом — или причиной — нашего разрыва. И только когда она без всякой видимой причины стала поносить моих родителей, я подумал: пожалуй, она переступила черту. Честно говоря, мы тогда выпили. Не скрою, я превысил свою норму, причем существенно.