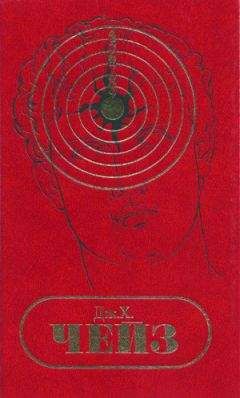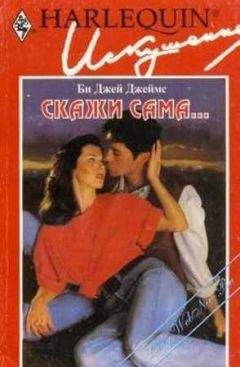Джеймс Мик - Декрет о народной любви
Не знаю, как долго продолжался бы подобный образ жизни. Каторга снаружи шумела гулом голосов, стуком топоров по дереву. Позднее прочих, едва меня окончательно откормили, возвратилось ощущение того, сколь далеко от другого мира я оказался, однако я превозмогал страдания, позволяя себе немного сумасшествия, воображая себя исследователем Арктики, очутившимся на скованном льдами судне и дожидающимся прибытия спасательной экспедиции. Вот уже несколько лет как вся каторга предавалась безумию, безумию глубокому, лишь усугубившемуся с началом голода, но я забыл о сумасшествии, иначе высвободил бы его вспышкой, с первыми проблесками солнца озарившими горизонт в ноябре, и сияние достигло бы мозгов каторжан, обрубило бы нервы, подобно долоту, и положило бы конец Белым Садам.
На следующее утро вновь взошло солнце. Сидя у окна, я поедал хлеб с сыром, листая Эдварда Беллами. Что-то влетело в окно: стиснутый кулак, до крови искромсанные костяшки, обнаженные жилы и сухожилия — рука, развевающиеся лохмотья, холодный воздух. Истаявшие мышцы прикрывала живая кожа: иссиня-серая, почти прозрачная. Миг — и шум разбитого стекла, окатило холодом, алые потеки на синюшной коже, тотчас же я отбросил книгу, встал, отступил на шаг…
Человеческий коготь ухватил, вырвал еду, дергаясь назад и перерезая себе артерию, налетев на выступ стекла в пробоине: я видел в окно с поднятой занавеской бараки на рассвете — впервые за столько дней. Увидел человека, разбившего окно, чтобы выхватить мою пишу, красные капли падали с рукава и касались почвы уже ледышками, а вор не замечал, запихивал хлеб в рот так плотно, что обнажились зубы, и казалось, не осталось губ — только яма рта и зубы. Скулы тоже обнажились, проступая сквозь плоть, кожа на лбу истончилась, огрубела, глаза — глубокие головные выемки; череп, обшитый шкурой мертвеца.
Пока я смотрел, еще один скелет, второй каторжанин, попытался украсть пропитание. Оба сцепились в драке, упали на снег, стараясь изничтожить друг друга последними остатками еще имеющихся сил; метили пальцами в глаза, лягались, стараясь одолеть, хотя конечности немногим превосходили по толщине кости. Дрались молча, без крика, и только дыхание слышалось.
Примерно в двадцати метрах от нашего барака лежал раздетый труп — еще один обтянутый кожей мертвец, ничком в снегу, а волосы и кровь смерзлись вокруг торчащего из черепа колуна. Пробежал охранник в тулупе, держа револьвер наготове. Засвистели, принялись стрелять.
В другом конце бараков громко бранились. Мазур и Цыган, занявший место убитого Пулемета, чего-то требовали от Могиканина.
Мазур повторял:
— Делиться надо, слишком богато на одного выходит!
Цыган говорил:
— Всё кончено, капут! Мочи нет ждать, братишка! Давай гульнем! Мне бы сердце. Сырое, теплое еще, страсть как люблю!
И сказал Могиканин:
— Довольно. Мое при мне останется. Что мое — со мной и уйдет. Вам достанется князь с его людьми. У них икры и шампанского столько, что до весны пировать будете.
А Цыган возразил:
— Ан нет, братишка! Не согласные мы! Хочешь взять князя — иди с нами, выступи на равнину перед их пистолями! Эх, стены же там каменные, вот такой толщины! Угнездились в тепле, мироеды, а нас-то всего шестьдесят, не прорвемся!
И Мазур прибавил:
— Делиться надобно. Куда ты с ним? Посреди зимы в бега подашься? И пяти верст со свиньей не пройдешь!
А Могиканин ответил:
— Я же запретил тебе использовать здесь это слово!
— Ишь ты, красавчик с пером! — воскликнул Мазур.
— Не резон ссориться, братишки, — прервал Цыган. — А чтобы сталь без дела не заржавела, давайте прикончим жирного, попьем да мясца пошамаем, гульнем, а после и до князя черед дойдет!
— Не уйти ему от меня! — заявил Мазур. — Порежу красиво, как художник, а после прикончу!
— Не бывать тебе художником, — произнес Могиканин, — потому как фантазия у тебя небогатая.
Сидя у печки, я заслышал крик Цыгана. А вот как Могиканин прикончил Мазура, так и не разобрал. Ножи — бесшумные орудия. Я слышал, как мой покровитель приказал унести труп, а Цыган убежал, и тогда Могиканин пошел ко мне. Раздвинул занавес из одеял, а в руке держал окровавленный нож. Сказал, пора отправляться в путь: сегодня утром перестали кормить. На мой вопрос, чего требовали Мазур с Цыганом, ответил: «Того, чего я им отдать не мог».
Казалось, тогда я понял, отчего животные бессловесны — не от неспособности к речи, но от ужаса, понуждающего к немоте в тот самый миг, когда должно умолять о милости; от страха и безнадежности, накатывающих, как только подходит двуногая тварь с острым блестящим лезвием в бледных скрюченных пальцах, а звери понимают и то, зачем их откармливали, и то, насколько стали неповоротливы, как ослабели; осознают собственную жадность и недальновидность и что копытам и лапам никогда не сравняться в ловкости с пальцами, что они деклассированы и отныне — мертвечина, мясо.
На миг я воплотился в животное. Стал свиньей, готовой биться и визжать под мясницким ножом, но только не говорить. После принялся подыскивать слова. Спросил:
— Неужели меня ты не смог отдать? Уж не я ли свинья?
И Могиканин сказал:
— Послушай, Грамотей! Придется ждать четыре месяца, прежде чем случится ледоход и мы сможем узнать, что за мерзавцы правят страной и не позабыли ли о нашей каторге. Четыре месяца, а вся еда — в кладовой князя! Останешься здесь — Апраксин вместе со своими псами прикончит, как других, чтобы не разграбили закрома. Или можешь попытать судьбу, тягаясь с Цыганом и его приятелями. Они проголодались, а ты не боец. Но есть и иной выбор. Уйдешь прямо сейчас со мной. — Добавил: — Что, Грамотей, тяжело решиться? Можешь остаться, и тогда расстреляют. Или съедят. А можем вместе выйти, наперекор дикой природе.
С этими словами дочиста облизал одну сторону клинка и протянул нож мне. Я отрицательно покачал головой.
Могиканин облизал и вторую сторону, отер тряпкой, засунул за пояс. Вдалеке, где стоял княжеский особняк, послышались хлопанье и треск ружейных выстрелов. Мне не оставалось иного выбора, кроме как отправиться вместе с Могиканином, хотя я и отдавал себе отчет, что страшный этот человек взял меня в попутчики единственно по одной лишь причине.
В Белых Садах мне оставалось лишь дожидаться скорой кончины. Вполне вероятно, что в тундре или тайге меня также ожидала гибель, однако, покуда мы будем продвигаться на юг, надежды — не одни лишь безрассудные упования.
Могиканин подготовился к походу загодя. Достал тулупы и рукавицы из тайников, меховые шапки и валенки. Вынул из схрона черный длинноствольный кольт, положил в нагрудный карман. Пристроил за пазухой колун. Раздобыл две сумы с провизией, бутыль спиртного, а мне велел захватить пару книжек.
Одевшись, ушли. Миновали ворота. Хотя и стемнело, светила луна, а путь к речному побережью был нам знаком. Часовые не помешали: охранники сражались, одни против каторжан, другие — на стороне мятежников, в зависимости от статуса и того, с кем договорились. Не будь стражи, очутись наше заключение хоть сколько-нибудь осмысленным, то и колючая проволока, запоры и сторожевые вышки оказались бы излишними. Бежали обыкновенно в мае. Зимой, чтобы удержать людей на месте, хватило и тундры.
Миновали сложенные грудой лодки, спустились к берегу, ступили на речной лед. Могиканин сказал, что, прежде чем встать на привал и развести костер, нужно одолеть десять верст.
Припомнился разговор за карточным столом — мой покровитель тогда вышел из барака, а я лежал на койке и притворялся спящим. Кто-то, кажется Петр, прозванный Пожарным, так как любил поджоги, спросил, не сплю ли я, а Цыган ответил: «А, да он только и знает, что дрыхнуть. Сладкий такой, что твой марципан с леденцами». Петр ответил, что дело выходит темное, на что Цыган цыкнул: «В темноте-то дела лучше всего и выходят». Прочие ответили хохотом, и какое-то время доносились лишь шлепки карт по столешнице да звякали копейки, а потом кто-то произнес: «Было дело, Мирон Ростовский ходил с подельниками к северу от Байкала. Пошел на волю, так тоже свинью с собой повел. Тот молодой был, ничего не кумекал, гладкий, мягкий. Так Мирон его с подельниками кончили, прежде чем провиант вышел. Огонь разводить не стали, чтобы не заметили. Так горло перерезали да почки вырезали, тем и наелись, теплые были, почки-то».
Я шел по следам, оставленным Могиканином в снегу поверх сковавшего реку льда. Вихри сметали снег к берегу, так что на льду он лежал не толще полуаршина. Ровное, замерзшее русло пробегало в лунном свете по схваченным морозами тундровым топям. Я знал, что никому прежде не удавалось сбежать из Белых Садов, тем паче в самый разгар зимы, когда до леса идти добрых десять, а то и двадцать верст, а до человеческого жилья и того более, ведь в такую пору даже тунгусы оставляют стойбища и вместе с оленями и чумами перебираются к югу.