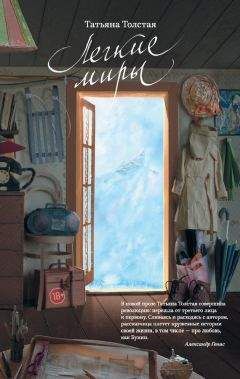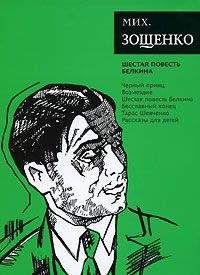Нелли Маратова - Наследницы Белкина
Валя быстро забывала маму, хотя и ругала себя за это. Старалась, но не могла искусственно вырастить в себе любовь к покойнице. Зато любовь к Изольде росла без дополнительных стараний — как и любовь к музыке.
— Учить тебя надо, — сказала однажды Изольда. — Слух есть, интересно, что с голосом?
Свой старый «Этюд» Изольда настраивала каждый сезон, благодаря чему инструмент находился куда в лучшем состоянии, чем иной «Стейнвей», без присмотра обратившийся в мебель.
Подруга Изольды, бывшая певица и аккомпаниаторша с глубоко въевшимися ухватками красавицы, долго ахала и целовалась с Изольдой, потом бочком зашла в комнату. Валя долго не могла запеть, стеснялась…
— Ты же понимаешь, ее никуда не возьмут с такой фактурой, — шептала аккомпаниаторша, прощаясь с Изольдой, — но голос, диапазон — все при ней.
— В хоре нужны всякие, — поморщилась Изольда, — тем более сейчас. Это в наше время на фигуру смотрели больше, чем в горло.
Подруга захихикала, потом прослезилась.
— У Вали все впереди, — пояснила она свои слезы.
Первым спектаклем, который Валя услышала за сценой, стал «Евгений Онегин». Ночью она долго не могла уснуть, хотела рассказать Изольде — Татьяна мстит Онегину, а вовсе не пытается хранить верность Гремину. Она просто упивается своей местью! Изольда, зевнув, отозвалась — это потому, что Татьяну пела вчера Городкова, большая, между нами, стерва.
Глава 7. Мнимая простушка
Согрин шел в театр, краски летели за ним следом. Что станет с красками, когда я умру, думал Согрин, они вместе со мной лягут в землю или отправятся на поиски нового художника?
Серая краска, морщинистая, с кракелюрами, как старый асфальт или темная слоновья кожа.
Оранжевая краска, с белым молочным налетом, с горечью апельсиновых косточек.
Белая краска, бледная, больная, будто паутина или слюна, будто стены нашего театра.
У служебного входа народу было, как на трамвайной остановке в час пик, — артистов в те годы встречали, будто героев-полярников. Предлагали донести сумку, просили автограф, просто глазели в свое удовольствие. Театр был не просто театром, а единственным окном в мир для тех, кто вправду любил искусство — как только можно было его любить в закрытом заводском городе.
Согрин встал на крыльце, за колонной, и крутил головой, будто филин. Он не мог знать, что Татьяна давным-давно дома, кормит дочку и даже не догадывается, как сильно ждет ее под снегопадом незнакомый человек.
— Согрин? — нежданный оклик, объятие, больше похожее на тумак.
Так и встречаются старые приятели. Если можно, конечно, назвать приятелем Валеру Режкина, бывшего сокурсника и вечного конкурента. Улыбка на лице появилась не сразу — ее пришлось вызывать силком, как особо вредного духа.
Они не виделись двенадцать лет, но за это время оба почти не изменились. Согрин удивился, почувствовав прежнюю зависть к Валере, она, как выяснилось, никуда не пропадала, а терпеливо ждала встречи, такой, как сейчас.
— Ты что тут делаешь? — спросил Валера.
— Гуляю. На спектакле был. А ты?
Валера вежливо, но криво улыбнулся.
— Не обратил внимания на декорации?
Согрин не хотел слушать про Валерины успехи, он заранее знал, что расстроится. Нельзя общаться с такими людьми, как Валера Режкин, — они начинают карьеру одновременно с нами, а потом так взмывают вверх, что не нагонишь.
Валера будто не замечал насупленного лика Согрина.
— Ты все с Женькой живешь? — спрашивал Валера, увлекая Согрина обратно в театр. — Буфет еще не закрыли, выпьем по маленькой.
«Это можно, — подумал Согрин, — вот только как же та девушка?» Все время разговора с Валерой он с ног до головы оглядывал театральных, покидавших здание, — узнал Гремина в кроличьей шапке, полненького Онегина в модной длиннополой дубленке: «Морозной пылью серебрится его бобровый воротник». Узнал даже бабку-контролершу, которая пустила его в зал.
Валера — нечуткий, как все успешные люди, — шагал впереди Согрина, их пропустили без звука, правда, дамочка в бюро пропусков попросила:
— Вы только не слишком засиживайтесь!
— Не волнуйся, ласточка, — обещал Валера, — по сто грамм, и домой.
Дамочка порозовела — приятно быть ласточкой в сорок шесть лет!
Все столики в артистическом буфете оказались заняты.
— А я и не знал, что здесь тоже есть буфет, — сказал Согрин.
Но Валера его не слышал. Он договаривался с кем-то за столиком и тащил к нему новые стулья. Лена, точная версия Светы из зрительского буфета, наливала водку в стаканы и выкладывала бутерброды на кусочки картона.
— Расскажи, как там Женя, — велел Валера.
В шуме его было плохо слышно, но Согрин и так знал, о чем пойдет разговор. Валера был раньше влюблен в Евгению Ивановну, и это, пожалуй, единственный пункт, в котором Согрин сумел одержать над ним победу. Иногда ему казалось, что он женился, чтобы досадить Валере. На самом деле он женился только потому, что этого захотела Евгения Ивановна.
Художественное училище, второй курс. Обнаженная натура. Двадцать студентов ждут, пока разденется модель. Кто-то громко рассказывает, как в прошлом году рисовал голую пьянь — за чекушку. Никого другого уговорить не смог, хотя предлагал тридцать копеек за час. Пьянчужка не могла сидеть неподвижно, заваливалась на бок, не рисунок — мучение! Преподаватель смеется вместе со всеми, но на часы поглядывает нервно.
Наконец в дверь стучат.
Она. Модель. Такая маленькая! «Не маленькая — миниатюрная», — поправляет сам себя Согрин, стараясь не смотреть на девушку такими же глазами, как все. Он художник. Он видит красоту, а не…
Студенты сосредоточенно сопят. Рабочая тишина, мечта преподавателей. Согрин вспоминает репродукции османских миниатюр. Идеально вылепленная женщина, матовая кожа. Если сфотографировать, не унимается Согрин, можно поверить, что в ней метр восемьдесят росту. Глаза — светлый лавр, прозрачные, будто кожица крыжовника. Кажется, ей холодно. Согрин рисует ее так, как никто больше не сможет — ни в группе, ни в принципе. Даже Валера Режкин — в пролете.
Заканчивая рисунок, он уже точно знал, что у него будет продолжение.
Преподаватель, умница и убежденный алкоголик, смотрит на модель и думает, что давно не видел настолько красивое тело. Некрасивую писать интереснее. А эта… На что вдохновит, кроме перепиха? Глянец, химические цвета, как у тех парней в сквере, что малюют на заказ шлягерные сюжеты — гологрудых девок на фоне бурлящих водопадов, беспощадно алых роз и темных туч с яркой веткой молнии. Не то Вагнер, не то Константин Васильев. Песнь о Нибелунгах, сладкий уркин сон, тюремный романс.
И Женечка хорошо запомнила тот день. Мальчик из параллельной группы спросил — не хочет ли Женечка подзаработать? Ей нравился тот мальчик, и предложение пришлось по сердцу: соблазнительно — раздеться перед двадцатью художниками! Она еще год назад, школьницей, каждый день по два часа сидела на подоконнике голышом, ноги в окно — якобы загорала. Странно, как редко люди смотрят вверх, думала Женечка, ню с пятого этажа никто не замечал.
Теперь все было иначе — Женечка сидела в кресле, завешенном белой простыней, а юные художники (есть такой журнал — «Юный художник» — лукаво и лениво вспоминала Женечка) непрерывно смотрели то на нее, то на рисунок — каждый взгляд прилетал, будто сладкий удар, и так хотелось увидеть поскорее их работы.
Лишь хмурый тип у окна смотрел на Женечку так, словно она была самой обыкновенной, не особенно красивой девицей — по сто штук в каждом доме, даже голая неинтересна. Женечка рассердилась на этого типа, но чем больше он хмурился, тем больше нравился ей.
Когда сеанс закончился и Женечка, завернувшись в простыню, как в тогу, встала с кресла — хмурый подошел и резко развернул, как щит, свой рисунок. Там было все его восхищение, все, о чем он промолчал, все, о чем хмурился. Вот, значит, как это бывает у художников!
Согрин бегло вспомнил тот день, вспомнил без удовольствия — теперь он не хранил в себе тайны.
Женечка давно стала Евгенией Ивановной. Красивое тело вначале превратилось в привычное, а потом — в обычное. Художник Согрин стал ремесленником. А Валера остался художником, и, судя по декорациям к «Онегину», превращался в мастера.
Глава 8. Пророк
В гримерке Изольда садилась чуточку боком, и другой хористке, Шаровой, всякий раз приходилось подолгу устраиваться, чтобы не мешать соседке. Два года назад к ним втиснули еще один столик и еще одну артистку, молоденькую Лену Кротович. Старожилки поворчали, но потом смирились и с теснотой, и с Леной — а куда деваться? Валя, впервые очутившись в Изольдиной гримке, вслух возмутилась — почему ее обожаемая наставница ютится в таких условиях? Локти поджимает, чтобы соседки могли загримироваться! И, кстати, почему они сами гримируются? Валя-то думала, в театре каждый делает только одно дело.