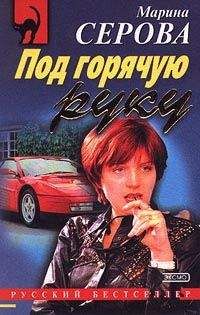Юрий Манухин - Сезоны
Если вчера, проснувшись ночью в дырчатом шалаше и услыша снег, я, честно говоря, струхнул, то сегодня — нет. Шабаш! Палатка — та же крепость, за стенами которой можно перенести даже осаду пурги. Пусть стены эти тоньше ученической тетрадки, но все же это стены! Если с умом, то они превратятся в неприступную для снежных плетей преграду. Как же не быть спокойным?! А возвращение? По присыпанной снегом тундре? Все это — зола.
«Да и к чему торопиться? Продуктов у нас еще дня на три, можно растянуть и на неделю. Шишки кедрачовые будем собирать. Пойду повыше по речке, кстати, почему у этой речки еще нет названия?.. Там выше по речке куропаточки должны быть. Патронов у меня три обоймы. Десяток можно расстрелять по мелкой дичи. И у нас будет мясо. Все, молчу… Нет слов… Как бы мы прекрасно здесь зажили! С Олей. На Олиной речке. Оленька, голубушка! Олюшка!» — звал я ее, кричал про себя, и она пришла.
Брякнула крышка о кастрюлю, показались Олины руки, поставили дымящуюся кастрюлю, рядом чайник. И появилась она.
— А ну-ка, горяченького, Павел Родионович! Обязательно. И не отказывайтесь! Через силу. Ну хоть несколько ложек!
Она пододвинула ко мне кастрюлю, и мы принялись за еду, аккуратно снимая каждый со своей стороны слой не слишком горячей каши.
Еще пять минут назад меня далеко не прельщало, что сейчас придется глотать сладкое едово. Но вот ложка, другая — и уже не оторваться, и я, к удовольствию Оли, уже подхваливаю ее молочную кашу.
— У меня братик Ванечка не любит кашу, как и вы. Да он вообще мало что любит. Зато худющий-худющий! Он на отца похож. Это я и в мать, и в отца, а он — как отец. Мама запричитает иногда: «Что же ты, Ванечка, не ешь? Ведь кости да кожа, ведь в чем душа держится?» А он: «Тощий, мама, лучше познает мир. И чего бояться костей? Все равно кто рисовать меня будет, скелета не нарисует».
— Так сколько же твоему братцу, Оля?
— Двенадцать.
— Молодец, Ваня. Правильно развивается твой братишка. Действительно, кто тощий и голодный, тому всякие хорошие мысли в голову приходят — нестандартные решения, я имею в виду. А у меня, Оля, брат Андрей старше меня на два года, а ведь охаял бы он сейчас твоего Ваню и сказал бы: «Непорядок». Так и сказал бы мой старший брат.
— Как нехорошо вы, Павел Родионович, о своем брате. Зло как-то.
— Что поделаешь, Оля, сидит она во мне, эта злость, и ничего с собой поделать не могу. Думаешь, сладко мне? Я иногда кулаком по сердцу стучу, до того обидно становится!
— А из-за чего обида-то, Павел Родионович?
— Да не знаю толком. Я же оптимист, Оля. И знаю, и верю в то, что все к лучшему на этом лучшем из миров. Я оптимист, иначе не работал бы в геологии. Здесь пессимист не проходит. На этом она и стоит, матушка-геология. Но мне, Оля, не хватает иногда внутреннего равновесия и по другой причине. Вот, понимаешь, я не могу согласиться, что где-то рядом со мной живет несправедливость. Я ненавижу ее. Я сам стараюсь не поступать несправедливо по отношению к другим людям. Но она есть. А я ничего не могу сделать. Может быть, правда, я и не пытаюсь что-нибудь делать? А может быть, пытаюсь, да не выходит ничего? Усилий, может быть, мало прикладываю? И от бессилия, Оля, моя злость. От бессилия. И поздно, наверное, начинать. Нужно было с детства как-то определиться.
— Эх, Павел Родионович, Павел Родионович, — грустно сказала Оля, — все равно, если долго зло в себе держать, больше потеряешь. Ведь это у злой собаки нос всегда в крови. И палку эта собака тоже везде видит.
Оля достала из нагрудного кармана полиэтиленовый мешочек, в который была упакована записная книжка. Она вынула ее и, пододвинувшись к свечке, принялась ее перелистывать. Мне не видны были записи. Зато по переплету стало ясно, что это заслуженная книжка, потерять которую гораздо хуже, чем потерять годовую зарплату.
Оля переворачивала страницы. «Вот… — остановилась. — Может быть, это подойдет?» — спросила не то у себя, не то у меня, быстро подняла на меня глаза, будто прикидывала, стоит или не стоит читать, а потом тряхнула головой и начала глухо:
«Истина и справедливость — единственное, чему я поклоняюсь на земле. Я различаю люден исключительно по их личным качествам; я преклоняюсь перед талантами и почитаю мудрость, ценю добродетель. Но… — она замолчала на мгновение и сильно, так, что голос ее клятвенно зазвенел, продолжала: — Я буду беспощадно выступать против мошенников, разоблачать лицемеров и изобличать изменников; я буду стремиться удалить от общественных дел людей алчных, только прикидывающихся их ревнителями, а также люден подлых и непригодных, неспособных служить отечеству, а также люден подозрительных, которым оно не должно доверять».
Оля захлопнула свою книжечку. А я молчал. Но сердце мое застучало глухо, поднятое по тревоге словами, в искренности которых невозможно было сомневаться. Я молчал. Я догадывался, кому принадлежали эти слова, накалившие холодный воздух в палатке и заставившие свечу снять ослепительной плазмой. Эти слова зазвучали на предательских ветрах Первой Великой революции. Но они не были выстужены и развеяны ни этими ветрами, ни почти двумя сотнями лет, прошедших с тех пор.
— Так говорил великий Марат, Павел Родионович. Но он не только так говорил, он так и жил. И поэтому он был Другом народа, а друзьями народа называют только добрых людей. Только добрых. А теперь, Павел Родионович, спокойной ночи. Любые обиды на ночь забываются.
— Пожалуй, Оля. Спокойной ночи.
Я перевернулся на левый бок, полежал тихо минут десять без единой мысли, потом откуда-то из глубин памяти всплыли вещие строки: «Море уходит вспять, море уходит спать», и я уснул.
13Странный мне сон приснился!
Ленинград стоял на горах. А я расхаживал по краю Марсова поля, обращенного к Неве, по краю трехсотметрового обрыва, потому что само поле представляло собой поверхность плато. Нева морем разлилась у подножия обрыва, и против меня, на далеком скалистом Заячьем острове, взметнувшемся над водой метров на двести, красовалась Петропавловская крепость со всеми своими бастионами, собором и шпилем. Я дошел до Лебяжьей канавки — она бурлила далеко внизу, а на противоположном склоне долины раскинулся Летний сад с аллеями и фонтаном, а правее фонтана капелькой крови застыл на склоне среди зелени Михайловский замок. И тут я вспомнил, что мне нужно зайти в вуз и сдать курсовик по гидравлике. В противном случае меня должны были исключить за академическую неуспеваемость. Но спуститься с Марсова поля было невозможно. Я сновал по краю обрыва в надежде найти лестницу, но лестницы не было. И я решил пересечь площадь и посмотреть: нет ли спуска с другой стороны.
Я закурил и отправился к гранитному обрамлению кладбища, похожему на длинные надгробья, лежащие друг на друге, когда вошел внутрь его, увидел, что ступенчатые стены напоминают станции метро. Их было четыре станции, вернее, четыре входа со стеклянными дверьми врезались по углам в гранитные блоки. Я не удивился: могли же за мое отсутствие построить станцию метро «Марсово поле».
— Скажите, пожалуйста, как мне отсюда добраться до горного института? — спросил я у женщины в черном, прохаживающейся среди могил.
— Это, наверное, очень далеко. Это, наверное, на северо-востоке где-то? Может быть, на острове Крайнем? — ответила та.
— Да нет же! Он на Васильевском острове. Двадцать первая линия, дом два.
— Нет, молодой человек. К сожалению, я ничем не могу вам помочь. Обратитесь лучше вон к тому гражданину.
Человек, на которого она показала колючим черным зонтиком, как раз в этот момент распахнул стеклянную дверь и появился на площади. Дверь долго качалась за его спиной. А он выпрямился и посмотрел в нашу сторону. Человек был на удивление высок. На нем был светлый плащ, широкие серые в клеточку брюки и серая мягкая кепка. Я сразу же узнал его и бросился к нему навстречу.
— Здравствуйте, Владимир Владимирович!
— Здравствуй, деточка, — приветствовал меня Маяковский, потому что это был он. — У тебя, Паша, не найдется спичек?
— Прикурить? У меня горит. Прикуривайте, пожалуйста, Владимир Владимирович.
Он согнулся пополам, а я поднял руку и встал на цыпочки, чтобы ему удобнее было прикуривать. Он затягивался до провала в щеках, но его папироса не прикуривалась.
— Отсырели, — сказал он.
— У меня «Беломор» Урицкого, абсолютно сухой. Я его, знаете, всегда на всякий случай в полиэтиленовом мешочке ношу.
Я сунул руку в карман — пачки не оказалось. В другой карман — тот же результат. Судорожно начал я ощупывать карманы… «Беломора» не было.
— Что за пустяки, — сказал Маяковский. — Стоит ли по этому поводу делать такое несчастное лицо?
Он улыбнулся губами и сиял с меня шляпу. Под ней оказалась злополучная пачка в полиэтилене. Я вытащил ее из мешочка и, смущенный, протянул папиросы Маяковскому: