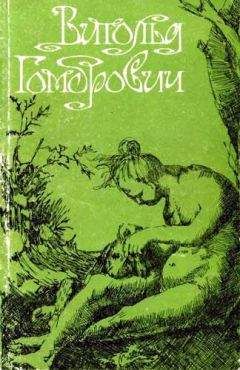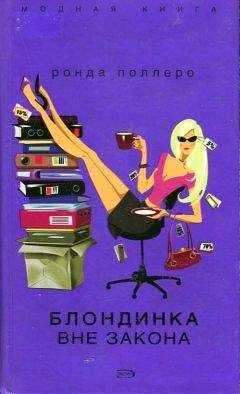Витольд Гомбрович - Девственность и другие рассказы. Порнография. Страницы дневника.
Пожалуйста, сделайте как прошу. Не отвечайте. Письмо буду оставлять на ограде около ворот, под кирпичом. Письмо сжигайте.
А этот второй, этот N2, этот Юзек, что с ним, как, в какой комбинации его с ними скомбинировать, чтобы все это заиграло, он ведь так подходит, лучше не придумаешь, ломаю голову, пока не знаю, но постепенно как-нибудь втянется, вплетется, только вперед, только дальше! Пожалуйста, выполните все точно.»
Письмо меня ошарашило! Я стал ходить с ним по комнате и в конце концов ушел в поле, где меня встретила сонность вздымающейся земли, подножия пригорков на фоне убегающего неба и растущий предночной натиск всех вещей. Уже досконально изученный пейзаж, о котором я знал, что застану его здесь — но письмо выталкивало меня из пейзажей; о, да, письмо меня выталкивало, и я размышлял, что делать, что делать? Что делать? Вацлав, Вацлав — но этого я ни за что бы не сделал, это вообще не подлежало выполнению — и ужасало тем, что дымка фантастического вожделения, становясь определенным заданием, материализуется в факт, в конкретный факт, лежащий у меня в кармане. В своем ли уме был Фридерик? Не был ли я ему нужен лишь для того, чтобы удостоверить мною свое помешательство? Воистину то был последний удобный момент порвать с ним — и тогда у меня появилась возможность очень просто все решить, во всяком случае, я мог объясниться с Вацлавом и Иполитом... и уже тогда мне виделся разговор с ними: — Понимаете, какое дело... Боюсь, что Фридерик... подвержен каким-то психическим недомоганиям... я за ним уже давно наблюдаю... ну в общем, после всех этих чертовых пертурбаций не он первый, не он последний... но в любом случае надо обратить внимание, мне кажется, что это какая-то мания, эротическая мания и, кажется, на пункте Гени и Кароля... — Так бы я им сказал. И каждое мое слово выпихивало бы его из общества людей здоровых, делало бы сумасшедшим — и все это можно было бы провернуть за его спиной, делая из него объект нашей неназойливой опеки и деликатного присмотра. Он бы ни о чем не догадался — а не зная, он не мог бы защищаться — и из демона превратился бы в помешанного, вот и все. А я бы пришел тогда в себя. Еще было не поздно. Я пока еще не сделал ничего такого, что бы компрометировало меня, письмо было первым материальным свидетельством моего с ним сотрудничества... потому-то оно так и тяготило. Итак, надо было решиться — и, возвращаясь домой, когда деревья расплывались пятнами, проникнутые той неопределенностью, единственным содержанием которой был сумрак, я нес с собой решимость обезвредить его и выбросить в сферу обычного недоразумения. Но вот и кирпич забелел у ворот — я глянул — а там уже ждало меня новое письмо.
«Червяк! Вы в курсе! Вы все поняли! Вы тогда наверняка, как и я, прочувствовали это!
Тот червяк — это Вацлав! Они сошлись на червяке. Они сойдутся и на Вацлаве. Растаптывая его.
Они не хотят друг с другом? Не хотят? Вот увидите, что из Вацлава мы вскоре сделаем для них постель, в которой они спарятся.
Сюда необходимо вовлечь Вацлава, надо 1) чтобы он это увидел. П. п. Продолжение последует».
Я взял письмо наверх, в свою комнату, и только там прочитал его. Потрясающе: его содержание было мне настолько ясным, как будто я его сам себе писал. Да, Вацлав должен был стать раздавленным ими червем, должен был довести до греха, сделать их грешниками, ввергнуть в ночь раскаленных страстей. Что, собственно, препятствовало этому, почему они НЕ ХОТЕЛИ друг друга? Ах, я знал — и не знал — известно, но неуловимо, как молодость, ускользающая от взрослой мысли... но в любом случае это была какая-то сдержанность, какая-то совестливость, какой-то закон, да, внутренний запрет, которому они следовали... а потому, видимо, не ошибался Фридерик, полагая, что они разнуздаются только тогда, когда вдвоем растопчут Вацлава, когда распустятся на нем! Если они станут любовниками для Вацлава... то станут любовниками и друг для друга. А для нас, уже слишком старых, это единственная возможность эротического приближения к ним... Вовлечь их в измену! Когда они окажутся в ней вместе с нами, тогда произойдет смешение и соединение! Я понимал это! И знал, что грех не обезобразит их, совсем напротив, эти молодость и свежесть будут еще сильнее, когда, втянутые нашими перезрелыми руками в испорченность, они почернеют и соединятся с нами. Да! Я знал это! Все, хватит кроткой и, как водится, благородной молодости — теперь речь шла о создании иной молодости, той, которая трагически пронизана нами, старшими.
Воодушевление. Разве меня это не воодушевляло? Ну да, разумеется. Я, будучи уже вне красоты, исключенный из мерцающей сети очарования — и не очаровывающий, не умеющий снискать себе симпатию, безразличный природе... да, я все еще был способен восхищаться, но знал, что мое восхищение уже никогда не будет восхитительным... а потому я был в этой жизни как паршивая и побитая собака... Однако, когда в моем возрасте выпадет случай коснуться цветения, вступить в молодость хотя бы ценой растления, тогда оказывается, что и поглощенному красотой уродству тоже можно найти применение... Искушение, опрокидывающее все препятствия, неотразимое искушение! Воодушевление, даже безумие, гнетущее — но с другой стороны... Но ведь! Но как же! Нет! Слишком безрассудно! Этого нельзя делать! Чересчур личное — чересчур частное и особенное — и беспрецедентное! Ступать на этот демонический, на этот особый путь, с ним, с существом, которого я боялся, ибо ощущал его как существо экстремальное, понимая, что он должен слишком далеко завести!
И, подобно Мефистофелю, разрушать любовь Вацлава? Нет, подлая и глупая прихоть! Не для меня! Ни за что! Так значит, что? Отступить, пойти к Иполиту, Вацлаву, представить его как клинический случай, сделать из черта психа, из ада — больницу... и я уж собрался идти, чтобы как в клещи схватить эту разгулявшуюся разнузданность. Разгулявшуюся... Интересно, где? Что он делает сейчас? То, что он сейчас что-то делает — нечто такое, о чем я не знаю — вытолкнуло меня, как пружиной, я вышел во двор, меня окружили собаки — никого, лишь дом, только что оставленный мною — замаячил передо мной и стал сбоку, как вещь. Свет в окнах кухни. На втором этаже окно Семяна (совсем забыл о нем). Я, затерявшийся среди деревьев, стою перед домом, просверленный далью рассвеченного звездами небосвода. Я засомневался, заколебался, а дальше — ворота, у ворот — кирпич; пошел к воротам, как будто исполнял обязанность, пошел, а когда было совсем близко, осмотрелся... не сидит ли он где в кустах. Под кирпичом — новое письмо. Ну, расписался!
«Вы ясно все понимаете?
Я уже кое-что разузнал.
1) ЗАГАДКА: почему они друг с другом не?... Что? Знаете? А я знаю. Это было бы слишком ПОЛНО для них. Слишком СОВЕРШЕННО.
НЕПОЛНОТА-ПОЛНОТА, вот ключ!
Боже правый! Ты — Полнота! Но это прекраснее Тебя и я сим отказываюсь от Тебя.
2) ЗАГАДКА: почему они льнут к нам? Почему флиртуют с нами?
Потому что они нами хотят друг друга. Нами. А еще — Вацлавом. Нами, пан Витольд, дорогой мой, нами, нами. Они должны через нас. Вот потому они и кокетничают с нами!
Вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное? Что мы им нужны для этого?
3) Вы знаете, в чем опасность? В том, что, будучи во всем совершенстве моего духовно-интеллектуального развития, я нахожусь во власти рук легких, несовершенных, пока еще растущих. Боже! Они все еще растут! Они легко-легко, поверхностно вводят меня во что-то такое, что мне придется в мыслях и чувствах вычерпать до дна. Они легко-легкомысленно подадут мне чашу, которую я должен буду испить до последней капли...
Я ведь всегда знал, что меня что-то такое ожидает. Я — Христос, распятый на 16-летнем кресте. Пока! До встречи на Голгофе. Пока!»
Ну и расписался! И опять я сидел у лампы в комнате наверху: предать его? Выдать? Но в таком случае я и себя должен был бы предать и выдать!
И себя!
Все это теперь принадлежало не только ему. Это было также и мое. Из себя делать сумасшедшего? Выказать в себе единственную способность входить, входить... во что? Во что? Во что? Что это было? Меня снизу позвали на ужин. Когда я оказался в той повседневной структуре, какую мы воссоздавали за столом, все повседневные проблемы, война и немцы, деревня и заботы, снова возвратились и снова ударили по мне... но, перестав быть моими, они ударили как-то по-чужому...
Фридерик тоже сидел здесь, на своем месте — и, поедая вареники, рассуждал о положении на фронтах. Несколько раз он обращался ко мне, интересуясь моим мнением.
10
Посвящение Вацлава произошло строго в соответствии с планом. Ничто непредвиденное не осложнило посвящения, прошедшего гладко и спокойно.