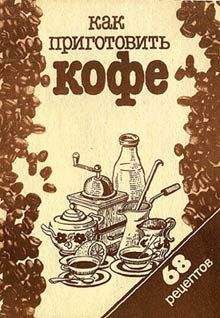Ирина Муравьева - Портрет Алтовити
Она наклонилась над гробом, старательно расцеловала Николь в лоб и в обе щеки, потом перекрестила ее.
– Иди, птичка, – сказала она, но не по-английски, а на своем языке. – Ни о чем не тревожься, отдохни. Бог даст – встретимся.
И вернулась к доктору Груберту. Он видел, что она еле удерживается от слез, но при этом зеленые глаза ее мечут искры.
– Начинается спектакль, – зашипела она, – глядите!
Линда, оставшаяся одна – все остальные слегка отступили, – грудью навалилась на Николь, обеими руками судорожно вцепилась в края гроба и с криком «Не отдам!» забилась в истерике.
Ее пытались оттащить, уговаривали, но она кричала свое, отбивалась локтями и захлебывалась.
– Ну вот, – с ненавистью сказала Снежана. – Что я вам говорила? Акт первый: безутешная мать у гроба дочери.
– Зачем вы так?
– Да вы что? – Она даже всплеснула руками в капроновых черных перчатках. – Вы что, не понимаете, что здесь происходит? Линда всю жизнь только и мечтала, чтобы Николь провалилась куда подальше!
Доктор Груберт так и отпрянул.
– Именно так! Конечно, она никакого яда ей в тарелку не подсыпала, и толченого стекла тоже! Но тут, в черепушке, – Снежана слегка хлопнула себя по гладкому смуглому лбу, – тут у нее всю жизнь варилась похлебка. Она-то ведь знала, что никакого изнасилования не было, и попытки к изнасилованию – тоже! Плод больного воображения! Вернее, голая клевета! Ложь в чистом виде! Лишь бы его доконать! Не знаю, не знаю, – она затрясла длинными волосами, – может, и он был хорош, я у ихней кровати со свечкой не стояла, но то, что она вздохнула с облегчением, когда он воспользовался собачьим поводком, – это я вам гарантирую! А Николь вызывала у нее ненависть, потому что все это видела своими глазами. Она была единственной свидетельницей, хотя Линда постаралась, конечно, ей промыть мозги. Тут и психологи поработали, они долго объясняли ей, что именно с ней случилось. Николь им поверила. Почти поверила. И вдруг – осечка! – Кошачьи глаза радостно и злобно сверкнули. – Приходит Майкл и говорит, что Салливан навестил его во сне и все рассказал. Тень отца Гамлета! Каково?
– Неужели вы действительно думаете, – пробормотал доктор Груберт, стараясь не смотреть туда, где захлебывающуюся слезами Линду отдирали от гроба, – что она желала ей смерти?
– Боже сохрани! Есть, как учит психиатрия, сознание и есть подсознание. Там, где сознание, там Линда – любящая мать, и все это, – у Снежаны дрогнул подбородок, – все это – проявление материнской любви и заботы. Ну, а там, где подсознание… Она ведь, в конце концов, и заманила Николь, она ведь допустила все это – звонок якобы из больницы, который Роджерс подстроил, – ведь это она помогла ему! А сейчас я не удивлюсь, если она плюхнется в обморок! Ну, вот – глядите, глядите!
Линда в съехавшей на затылок траурной шляпе боком упала на скамью, и несколько женщин, громко всхлипывая, обнимали ее. Гроб был уже закрыт, на крышке его лежали розы с такими длинными стеблями, словно они только что были в лесу деревьями.
Началось отпевание.
У доктора Груберта вдруг разболелась поясница, и в голову полезли бессвязные, не идущие к делу мысли, от которых он опоминался только тогда, когда священник громко, на всю церковь, восклицал:
– God! Have mercy![23]
Майкл и Айрис стояли прямо перед ним. Айрис плакала и время от времени осторожно гладила Майкла по спине сверкающими красными ногтями.
На кладбище было солнечно, и, когда гроб опустили в могилу, никому не видимая птица так громко запела изнутри небольшой рощи, примыкавшей к ограде, словно она перепутала зиму с летом. А еще через пятнадцать минут над ямой, из которой уже извлекли темно-синий кусок пластиковой ткани, равно используемой и при ремонте домов, и при захоронении, над этой ямой, в бурой глубине которой лежала Николь, выросла худая и высокая Снежана-Джейн в длинной, до пят, легкой норковой шубе и, не обращая ни на кого внимания, тихо произнесла что-то на своем языке, а потом, закинув кверху распухшее от слез лицо, повторила по-английски слова священника:
– God! Have mercy!
* * *Элизе получил американское гражданство и тут же заказал два билета в Москву. Девушка, которая летела вместе с ним, была тщедушная, некрасивая, но с полными вкусными губами и страшно веселая. Что бы Элизе ни сказал, она начинала смеяться.
Ему было трудно произнести ее имя – Надежда. Тогда она спросила, не хочет ли он называть ее по-английски – Хоуп?[24]
– Ты только пойми, Хоуп, – сказал Элизе накануне отлета, – то, что мы с тобой полетим, ничего не означает. Я имею в виду, что у меня нет никаких обязательств. Мы можем спать вместе и все такое, но жениться я не собираюсь, да и тебе совсем не нужен такой муж, как я.
Хоуп засмеялась своими вкусными губами.
– Я тебе просто хочу помочь, – сказала она. (Элизе нравился ее еле заметный русский акцент!) – Мне тебя жаль. И потом, мне до смерти надоели наши. Психопаты. Даром не нужны! Я ведь рассказывала тебе, как мой бывший бойфренд въехал в пиццерию, где я работала? Не рассказывала? – По ее лицу было заметно, что она гордится поступком бойфренда. – Стекло вдребезги, хорошо хоть утро было, пусто – не убил никого. Потом я начала с другим. Этот был интеллигентный, книжки читал. Картины рисовал. Такие, что смотреть страшно. Оказалось, что у него депрессия плюс папаша-наркоман. Наследственность. Вот тебе и книжки! А про тебя, Эл, я же вижу, что у тебя нутро хорошее и башка в порядке. В Москву тебе без языка тащиться нечего, а я в Москве была, я ее помню. – Она нахмурилась и сказала спокойно, грустно, как родная: – Конечно, я тебе помогу, Эл. Эта бабка, жены твоей мать, она же совсем придурочная.
Элизе не хотелось особенно распространяться про свою умершую жену. Катя продолжала жить у него в душе и хозяйничать там, как живая. Хотя иногда ночью он просыпался от страха, что не помнит ее лица. Закрывал глаза и начинал вспоминать.
Круглое, нежное, на тонкой длинной шее, с глазами не такими узкими, как у ее матери, но все-таки удлиненными, темно-голубыми при черных волосах, которые она гладко зачесывала на прямой пробор, открывая высокий ясный лоб и какие-то особенно красивые просторные виски с еле заметными прожилками.
Катя. Вот кого он любил. Хотя она так мало разговаривала с ним. Но ведь пошла же за него, пошла! Сама ведь предложила пожениться. Ему всегда казалось, что, если бы она не сорвалась тогда, не заболела бы этой проклятой послеродовой депрессией, все бы у них было хорошо. Да ведь и было хорошо, было! Он вспоминал, как за две недели до родов – мать ее упорхнула в Москву к любовнику – они валялись на диване в их крохотной квартирке, которую оплачивали ее родители, и окна были открыты, и там, за окнами, наступала весна, скудная нью-йоркская весна с ее скромными красками: чуть синее становилось небо, чуть выше облака, чуть слышнее птицы, и Катя положила на свой огромный живот (тяжело она таскала его, бедная!), положила на свой живот его руку и долго гладила его ладонью горячую глянцевитую тонкую кожу, которая вся так и ходила волнами от того, что Саше не терпелось поскорее вылезти на свет!
Разве плохо им было?
Он тогда думал так: родится ребенок, они поедут домой, в Пунта-Кану, там – на океане, на свежем козьем молоке (у матери две козы!) – там она придет в себя, отогреется, почувствует, что значит семья, у нее никогда не было нормальной семьи, – потом они вернутся в Нью-Йорк, он сядет за баранку – сдаст на водителя автобуса, хорошо платят, – она повозится пока что с ребенком, потом они родят еще одного, и она успокоится, не будет никаких наркотиков, никакого алкоголя – он-то знал, какая она добрая, застенчивая, бесхитростная, а все это – алкоголь и наркотики – только потому, что у нее сил не было на эту сволочную жизнь, не справлялась она, пряталась в дурноту, в туман, в сладкое дыханье порошка на ладони, – но ребенок ее вытащит, у нее доброе сердце, она веселая, нежная, а уж такого секса, как у них, – такого ни у кого вообще не бывало. Ох, как они любили друг друга – до беременности, до ее отеков…
Так он думал, и он ошибся.
Элизе весь покрывался холодным потом, когда вспоминал, как ему сообщили, что она умерла. Они с братом – хорошо брат был рядом! – помчались в госпиталь, и брат крепко держал его за плечо – и правильно делал, потому что он вообще-то почти ничего тогда не соображал, все английские слова выскочили из памяти, – и они куда-то ехали на лифте, вниз, в преисподнюю городской больницы, и там, в длинной комнате, на длинном столе, под белой простыней…
О, Иисус, Бог мой! Нет, этого он ни с кем обсуждать не собирается. Отца ее ему было жаль, хороший человек. Несчастный, всю жизнь небось только и делал, что чесал рога на голове. Но вообще-то они мало знали друг друга. Через пару месяцев после Катиной смерти Ричард заболел раком – Элизе тогда не было в Нью-Йорке, повез крошечного Сашу к матери, на остров, и сам там остался. Мать их кормила, жалела их с Сашей как могла. Да и вся семья их жалела тогда.