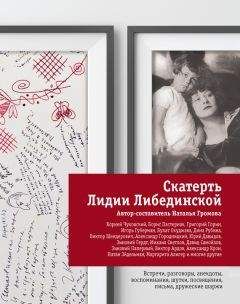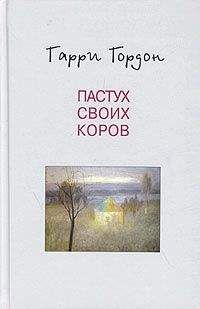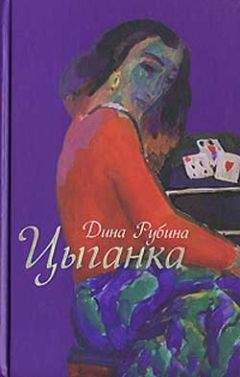Гарри Гордон - Пастух своих коров
— Дудочки давно сошли, опять появились клеши, только смешные, веером. Американские рабочие техасы стоят бешеные деньги у фарцовщиков.
— А женщины?
— Женщины то же самое. Те же штаны, только шире и волнительнее. Курят сигареты со специальным фильтром, как в Америке, видели «Адские водители»? Рок и буги уже не танцуют.
— Дальше, — произнес он, отхлебнув — ширится научно-технический прогресс. ЭВМ внедряется во все сферы народного хозяйства. А в быту — телевизоры в каждом доме. Большой экран, хорошо видно, цвет…
— Дорого?
— Да нет, доступно, раз в каждом доме. Кроме того — холодильники, морозят — будь здоров, и почти везде — телефон…
— Что-то я не вижу идеи, — закапризничала Люба. — И так понятно, что прогресс. Страна идет со славою навстречу дня. Тут можно пофантазировать. А главное — что?
— Главное? Хорошо, пусть будет главное. Представляете, сударыня, идете вы по городу и ощущаете беспокойство. Все вроде на месте: дома на месте, акации на месте, даже платаны на бульваре Фельдмана — и те на месте. И Дюк стоит, как ни в чем не бывало. И, вдруг, вы замираете, как тот Дюк: за целый день вы не встретили ни одного еврея…
— Куда ж они подевались? Выкрестились? Или их поубивали? Неужто погромы, — забеспокоилась Люба.
— Хуже. Евреи стали ходовым товаром. Особенно женщины. На них женились, меняли фамилию Процюк на Бенимович, вчерашние антисемитки выходили замуж за таких жидяр, что и подумать страшно. А все для того, чтоб получить израильскую визу и уехать.
— Ой, если все наши туда приедут, что будет с ихними!
— Не все в Израиль, не все. Можно и в Америку. В Нью-Йорке даже особый квартал приготовлен, для компактного проживания. Накрыт, так сказать, стол…
С горки выкатились на пляж две девушки в фетровых шляпах с бахромой.
— Привет сопляжникам, — крикнула одна из них, сдирая на ходу платье.
— Инна, — поморщился Адам, — вы же студентка филфака. Пора, наконец, иметь чувство слова!..
— Я больше не буду, — засмеялась Инна, — как вода?
Ее подружка округлила глаза, всплеснула руками и закричала в притворном ужасе:
— Адам! «Катюшу» стырили!
Адам побледнел, руки его задрожали, крупные капли выступили на лбу.
— Ах ты сука рваная, — произнес он сиплым шепотом, — курва, тварь позорная… Чтоб тебя покроцали!..
Сбивчиво матерясь и заикаясь, он поднялся на нетвердых ногах, разбил бутылку о скалу, и двинулся было на обидчицу, но Люба крепко сгребла его в охапку и прижала к груди.
— Ничего, ничего, — шептала она, показывая девушкам кулак и решительной отмашкой предлагая им сгинуть. Девушки скрылись под скалой.
— Ничего, ничего, — Люба осторожно вынула бутылочное горлышко из обмякшей адамовой ладони.
Притихший Адам что-то забормотал.
— Что ты, рыбонька?
— Дай мне, дай, — невнятно бубнил Адам, — дай же, мне надо…
— Конечно, конечно, миленький, дам, святое дело, прямо сейчас, хочешь, вон под той скалкой?
Адам отстранился и посмотрел на Любу ясными глазами.
— Дай денег, — сказал он жестко.
Люба заплыла далеко. Она ни о чем не думала, ничего не чувствовала, просто не хотелось возвращаться на берег. Когда она, наконец, повернула, то увидела с нового своего горизонта весь высокий обрыв, от подножья до черной каемки почвы на стыке с сатиновым небом, и крутую, вьющуюся в небо тропинку, подвластную только местным пацанам, и темную фигурку Адама где-то посреди. Адам балансировал левой рукой с зажатой в кулаке купюрой, и двигался неровно, толчками, будто волок за собой тяжелое переломанное крыло.
* * *Под вечер у Любы разболелась голова, кухонное окно пришлось закрыть: на улице клали асфальт — треск, грохот, матюки, а главное — вонища. Таблетку пирамидона она запила компотом, и хотела уже выйти пройтись, но пришла Лиза. Старые боевые подружки виделись теперь редко — Лиза работала целыми днями в канцелярии Пароходства, и потом у нее семья: муж, объелся груш, мугырь с канатного завода, дети, мальчик и девочка.
— Ты совсем обнаглела, подруга, — с порога заявила Лиза, — почему я должна рысачить через весь город в эту пылюку… Есть радио с «Кинбурна» — рассказала она, усевшись, — придут по графику, тринадцатого сентября. Твой шмаровоз, кажется, набил кому-то морду.
— Голубцы будешь? — спросила Люба.
— И чего-нибудь выпить. Замоталась я.
Люба достала из шкафчика початую бутылку коньяка.
— Армянский? — оживилась Лиза. — А ты знаешь, что армянский коньяк делают…
— Знаю, знаю, на Куяльнике. Этот настоящий.
Из прихожей раздалось шарканье, хлопнула входная дверь, в вдогонку женский голос умоляюще пропел:
Без меня не забывай меня,
Без меня не погаси в душе огня…
В кухню вошла Зинка-Гитлер в китайском халате.
— Мама Люба, вода согрелась?
Тонкими руками она, крякнув, сняла с плиты тяжелую выварку, отволокла в ванную и снова появилась на пороге.
— Такой фуцен попался, не дай Бог. Где ты их откапываешь, мама Люба? Кугут кугутом, а с претензиями. Ну, я его уделала, как врага народа. Будет теперь родину любить…
— Не разгони мне клиентуру, — вяло сказала Люба и повернулась к Лизе, — мертвый сезон, август. Все разъехались по Пятигорскам и Трускавцам, моря им мало… Ну, будь здорова?…
Гитлерша в ванной грохотала тазиками и пела во весь голос:
А мы танцуем с тобой
Под весенней листвою,
Нас видит только ночь
В аллее голубой…
— Ша, лахудра, — прикрикнула Лиза и закусила шоколадной конфетой. — Ты хоть рентабельная?
— Пока не горю, — пожала плечами Люба, — пару копеек на старость… На девочек много уходит. Они у меня зарабатывают как белый человек.
— Так урежь…
— Я тебя умоляю. Это дело принципа. Еще когда я была девочкой, я поклялась: стану человеком — никаких обид. Так они за меня горой. А расходов, конечно, много, плюс болезни, минус здоровье. Мусору участковому на лапу надо? — надо. Так он у меня имеет за три хорошие лейтенантские звездочки. Заметь, чистыми, никакой бездетности.
— Может, ему натурой.
— Не. Он не по этому делу. Молоденький, женился недавно. Хороший мальчик. Ну, давай еще по рюмке. Кажется, голова проходит. Гитлерша! Какие планы?
Гитлерша вышла из ванной с полотенцем на голове.
— Я сегодня на выезде. Не жди меня, мама, хорошего сына…
— Что-то я не помню.
— Как же… у начальника артиллерийского училища гость с Киева. Крупный вояка.
— А, да. Хорошо, хоть рядом.
— Что хорошего, — пожала плечами Гитлерша.
Лиза рассердилась:
— Или мы будем играть в морской бой, как я это делаю на работе, или ты меня развлекай. А то я пошла, восьмой час. Мой уже, наверное, разоряется…
— Ты, тогда, правда, иди, — вздохнула Люба, — а я полежу, пока никого нет. Спасибо тебе.
Полежать Любе не удалось: едва ушла Лиза, на пороге появился подвыпивший Валера. Он втолкнул в прихожую худенького мальчика в очках и с большими розовыми ушами, вызывающе чистыми.
Валера был мелкий фарцовщик на все руки — от чешских красных рубашек и ботинок на каучуке до магнитофонных бобин с Реем Чарльзом и Луи Армстронгом. Приглядывался он и к новому делу, прибыльному, но рискованному — иконы были в ведении государственной безопасности.
— Какого я тебе мальчика привел, Любаня, это не мальчик, а первый концерт Чайковского. Пацан с нашего двора. Угощаю. Проходи, Аркаша, ни в чем себе не отказывай, тетя Люба — правильная баба. Гитлер есть?
— Тут не Гитлер нужен, тут, скорее, Зигота, — размышляла Люба.
Потом пригляделась.
— А сколько тебе лет, мальчик?
— Семнадцать с половиной, — насупился Аркаша.
— Вот видишь, ребенку еще нет шестнадцати. Что-то ты, Валера, маху дал. Это же мичуринец, юный натуралист, куда ты смотрел? Пойдем, посидим? А Зигота свободна, спит, наверное. Так я мальчика не пущу. Ты, если хочешь, сходи по-быстрому. А мы с Аркашей пока чаю попьем с абрикосовым повидлом. Аркаша, ты любишь абрикосовое повидло?
Валера поставил на стол бутылку виски, распахнул окно и закурил американскую сигарету.
— Представляешь, Любаня, я тебе чуть двух французов не привел. Соскочили в последний момент. Законные мореманы, в чинах.
— Вот этого не надо. Валера, заруби себе на носу — никаких иностранцев! У меня приличное заведение. Мне только МГБ не хватало. Мусоров я еще с божьей помощью прокормлю.
Аркаша не сводил с Любы черных, как дырочки, глаз. Он знал, что идет к доступным женщинам, стеснялся, хотел сбежать, но любопытство одолело, и Валера держал его за руку, а он здоровый, с ним не страшно.
Аркаша представлял себе что угодно: пляски на сундуке мертвеца, поножовщину, мат и скрежет, полуметровые клеши, залитые алой морской кровью, все представлял себе Аркаша, но такое…