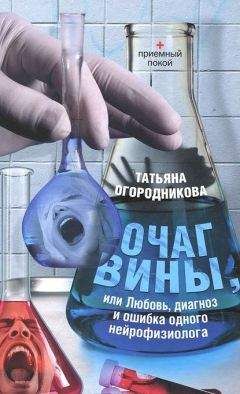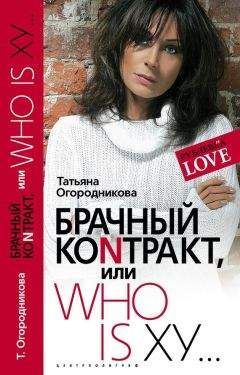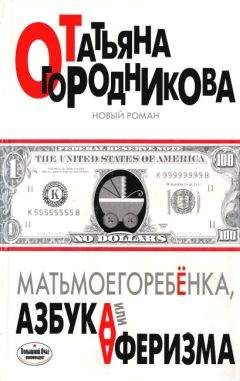Ольга Исаева - Мой папа Штирлиц
Автобус уже целую минуту стоит на конечной, как вкопанный, а Антошка, уйдя в свои воспоминания, все сидит на заднем сидении, пока водитель не гавкает, наконец, в микрофон:
– Аутобус дальше не пойдеть, освободите помещение.
Она вскакивает, сонно озирается, и, соскочив с подножки в гостеприимную лужу, бежит через пустырь к стремительно приближающемуся дядькиному дому. На полпути она ощущает вдруг непривычную легкость в руках и спохватывается, что забыла в автобусе узелок. В голове сразу же возникает сцена будущего скандала, на глаза наворачиваются слезы, но, обернувшись, Антошка с радостью видит, что автобус все еще понуро стоит на прежнем месте.
Водитель уронил плешивую голову на руки, крест на крест лежащие на обтянутом искусственным мехом руле. Некоторое время он не реагирует на Антошкин стук в кабинную дверь, но потом нехотя поднимает землистое от усталости лицо и, увидев заплаканную, запыхавшуюся Антошку, открывает дверь и чуть насмешливо спрашивает:
– Ну, невеста, ай беда стряслась?
– Дяденька, – причитает Антошка, – узелок, узелок там, на заднем сидении. Забыла я.
– Эх мааа, – сокрушенно тянет водитель, – хто ж тебя таку забывчиву замуж-то возьметь?
Он нажимает на рычаг, и автобусные двери с шипением открываются.
– Ну, пойдем посмотрим, како-тако сокровище ты у меня забыла.
Узелок на месте. Вручая его просиявшей Антошке, водитель улыбается, и его пожилое лицо морщится наподобие старой картофелины.
– На, не теряй, а то вишь кака красавица, а руки дырявые.
Облегченно буркнув "спасибо", Антошка, бежит обратно, а водитель, вздохнув о чем-то постороннем, тяжело идет к кабине, и, сделав круг, подъезжает к остановке, где уже давно нетерпеливо переминаются с ноги на ногу новые граждане-пассажиры.
ЧАЙНИКИ
В обеденный перерыв, оторвавшись от своих пробирок, лаборантки стянули с отёкших рук резиновые перчатки и едва расселись у тёплой батареи, разложив на подоконнике свёртки с бутербродами и термосовые крышечки с чаем, как вдруг с улицы в полузамёрзшее стекло забарабанила и не пойми что забалабонила Нинка Борисова, полчаса назад со слезами отпросившаяся у завлаба к зубному. Не успели они удивиться, как через минуту она уже ввалилась в лабораторию и засипела: "Ну и чо расселись? Ору вам, ору. В стекляшке чайники по два на рыло дают! Очередь заняла. Айда бегом, а то щас туда весь Хим-дым сдует". С бутербродами в зубах, набегу натягивая пальто и нахлобучивая шапки, они табуном протопали по коридору и не по расчищенной аллее, а, чтобы сократить путь, наискосок, по снежной целине, припустили к новому универмагу, прозванному в народе "Стекляшкой".
Вечером, вернувшись с работы на четыре часа позже обычного, мать резко распахнула дверь и, нетвёрдо ступая, вошла, торжественно потрясая двумя новенькими зелёными чайниками. Хмуро оглянувшись от учебника истории, Антошка спросила:
– Что отмечали?
– Не видишь? Чайники купила.
– Их что, теперь со спиртом продают?
– Зачем же? Спиртику мы с девчатами на работе тяпнули за удачу. Ты ж с Луны свалилась, не знаешь, что чайники теперь тоже дефицит! Наш-то сто лет в обед по горло ржавчиной зарос, а новый пойди – купи.
– А два зачем? – спросила Антошка, нашарив, наконец, тапочки под стулом и с недовольным видом направляясь к двери, чтобы принять у матери из рук покупки, – куда их, солить?
Та взъярилась, зрачками впилась в дочь, как двумя злющими бормашинами.
– Один, чтоб кой-каких умников по морде бить, за наглость, другой в подарок тёте Дусе.
И откуда у Антошки взялась эта привычка мать подзуживать? Знала ведь, что запросто может под горячую руку оплеуху схлопотать, а всё ж нарывалась. Мать объясняла это поведение юношеским желанием "искать и найти на свою жопу приключений" и голосом бабы Веры предупреждала: "Ох и нарвёсся ты, девка, на пердячую траву". После бабвериной смерти мать вообще стала её частенько цитировать, и даже внешне напоминать, хотя та была вовсе не её мать, а отцовская.
За ужином, уплетая разогретые на керосинке магазинные котлеты с макаронами, она описывала все перипетии минувшего дня, или, как она говорила "перепИтии":
– Влетает Нинка: глаза по ложке, на перманенте иней, от самой пар, как от кипящего чайника, про зубы и думать забыла: "Айда, – кричит, – на добычу".
Антошка ясно видела и Нинку, и охрипшую женскую очередь в мохеровых шапках, и склочниц-общественниц, затеявших составлять списки, чтоб под шумок себе без очереди побольше чайников урвать, но в то же время представляла себе, как приедет к тёте Дусе, а та обрадуется, примется уговаривать выпить чайку с ватрушками, и в тот момент, когда они усядутся на кухне чаёвничать, войдёт Артур, буркнет своё обычное "здрасьтётьдусь", а та, подмигнув Антошке, спросит: "Чо ж ты тока со мной-то здороваисся, я чай не одна, а Антонина у нас не прозрачная". Он покраснеет, выдавит из себя "привет", и, забыв, зачем пришёл, снова уйдёт к себе.
Артур – сын тётьдусиных соседей. Она называет их "мои яврейчики" и, подвыпив, любит порассуждать о разнице между жидами и евреями. Эмма Иосифовна и Арон Семёнович Кукуевы – евреи. Оба работают на хлопчатобумажном комбинате: она врачом в профилактории, он бухгалтером. И хоть весь комбинат смеётся над их фамилией и переделывает её на самый неприличный лад, люди они честные, непьющие, в долг дают, а сами не просят, не то что бывший тётьдусин начальник Курицын Борис Семёнович. "Тот, царство ему небесное, самый что ни на есть жид был, хоть всю жисть и прятал свою сучность под фамилией жены. А та была сучара известная, хоть и на всю катушку русская".
Антошку эти рассуждения раздражают. Не уважай она тётю Дусю за исключительную доброту и не сочувствуй ей в бездетной вдовской доле, может не удержалась бы, да и сказанула что-нибудь вроде: люди, мол, делятся на умных и дураков, а национальность тут ни при чём, но рассказы о жизни тётидусиных соседей её очень даже интересуют. Антошке нравится, когда раскрасневшись от водки, которую тётя Дуся называет "белочкой", та принимается описывать, как, придя с работы, Арон Семёнович, в шлёпанцах и женином переднике, встаёт к плите ужин готовить и, пока куховарит, норовит её разными шуточками угостить, а прежде чем унести скворчащую сковородку в свою комнату, обязательно сгружает ей на тарелку самую что ни на есть вкуснятину. Та и радёхонька. Скучно одной-то на второй группе инвалидности дома сидеть. "А уж готовит он – пальчики оближешь! Казалось бы, мужик! Куда ему мохнолапому? А глядишь: и курицу, и рыбу и пюре там какое не хуже любой бабы смастерит. А вот жена его, лучше бы уж уколы делала. Иной раз в праздник, угостит пирогом, так хоть выбрасывай". Тётя Дуся, конечно, не из тех, кто просто так сдаётся. Она сухари эти в простокваше замочит, в мясорубке прокрутит, сахарку добавит, творожку, яблочко и глядишь, через полчаса из духовки такой пирог-красавец лезет, лучше любых магазинных тортов. Словом, довольна тётя Дуся соседями.
А ведь как горевала, когда вместо отдельной квартиры, её, фронтовичку, на старости лет подселенкой в чужую семью впихнули. Ну да что вспоминать? Дело прошлое. Поначалу, конечно, жаловалась. Не то что с чужими, с родными непросто в одной квартире ужиться. Вон в бараке, что ни дверь – скандал: Малафеевы, Хусаиновы, Ерохины. Нет! Такие соседи, как у тёти Дуси, на дороге не валяются. Ну и что ж, что Эмма Иосифовна неряха? Не по злобе, из-за зрения. Намоет пол в кухне: в середине мокро, по углам пылища, а она и не видит, зато когда у тёти Дуси в прошлом году сердце прихватило, та до приезда скорой её за пульс держала и каплями отпаивала, а с тех пор каждую неделю давление мерит и таблетки с работы таскает.
Но особенно Антошка любит, когда начинаются рассказы про Артура. Уж такой он сякой, золотой-серебряный, отличник-общественник, в медицинский готовится, но за картошкой для тёти Дуси по первой просьбе бежит. Родители зовут его Ариком, но Антошке гораздо больше нравится имя Артур, да и сам он ей очень нравится: кудрявый, глаза чёрные, вылитый Фанфан Тюльпан. Жаль только, редко удаётся с ним увидеться. Не будешь же каждый день на другой конец города мотаться. Вот если бы они в одной школе учились...
После ужина, когда в четыре руки посуду мыли, верней мать мыла, а Антошка вытирала, мать как бы между прочим поинтересовалась:
– Ты уроки сделала?
– У нас же каникулы.
– А чего историю читала?
– Да так... Интересно.
Мать обрадовалась:
– Сгоняй завтра к тётке, отвези подарочек к Новому году.
– Так ведь он когда был-то?
– А ты отвези. Лучше поздно, чем никогда.
Антошка и сама собиралась, но, учуяв в материнской интонации особую, не свойственную ей, просительность, насторожилась.
– А сама-то что?
Мать кашлянула и куда-то в бок пробурчала:
– Да ко мне завтра придти должны.
– Уж не Ёж ли Ежович? Что-то он в гости зачастил. Не кормят его дома, что ли?
Мать сорвалась на крик: "Не твоё собачье дело, – но тут же опять заискивающе спросила, – так отвезёшь?".