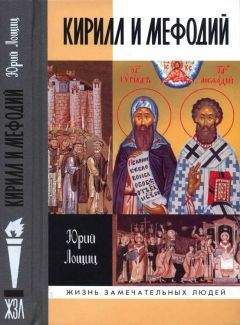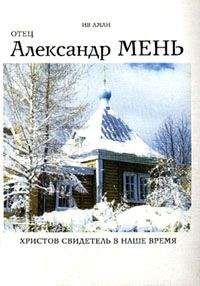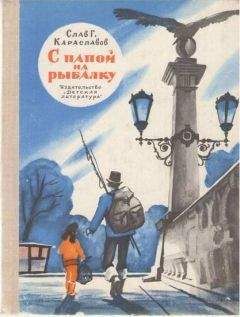СЛАВ ХРИСТОВ KAPACЛABOB - Кирилл и Мефодий
— Вода, сестрица, течет, берега размывает.
— Укрепить разве некому?
— Это все равно, что пытаться ухватить время за хвост и удержать его на месте.
— Неясны твои слова…
— Неужели? Ты ведь тоже изменилась... И вера у тебя другая.
— Я жила среди других людей.
— Нельзя обнять угольщика, не загрязнившись. Пока черного мало, но дело пошло...
— Неужели все новое ты называешь черным?
— Это так, к слову. Я бы назвал его золотым — важно, что оно есть. Вот ты тоже заметила, хотя недавно вернулась. Ты ведь знаешь, меня интересует все, и я люблю перемены. Это означает, что мы думаем, мы идем вперед. Надо идти вперед, если мы не хотим, чтобы наше государство исчезло.
— Исчезло?
— Да, да, исчезло... Мы слишком отстали от соседей, чтоб позволить себе отставать еще больше. Того и гляди, останемся одни, как на необитаемом острове...
Эти мысли Докса помогли Кремене посмотреть на брата иными глазами, поверить ему. Поэтому она, не без страха, спросила:
— А что ты думаешь о вере?
— Веру люди пусть выбирают себе сами.
— Вот как ты думаешь! А таких, как ты, сколько?
— Немало, но я-то могу заявить об этом, и никто меня не обвинит, что, мол, от Тангры отказываюсь, а другие не могут...
— Как это понять?
— А так, что старое еще владеет людскими душами. Точнее, власть в руках старого, утвержденного временем...
— А ты во что веришь?
— Я? В птиц, в небо, в добро... И в Тантру, разумеется, я же ханский брат, — закончил он, и она не могла понять, пошутил он или сказал всерьез.
Больше такого разговора не было, несмотря на то что Кремена послала сказать ему, чтобы он пришел к ней. Первый раз Докс ответил, что едет в Преслав, второй — что собирается на охоту, третий — что неважно себя чувствует. По-видимому, не хотел встречаться с ней прежде, чем состоится ее разговор с Борисом. А хан пугал сестру молчанием, ему все не хватало времени на этот разговор... Кремена-Феодора прекрасно понимала, что забот у него по горло, но не могла освободиться от сомнений, что он умышленно тянет со встречей, желая узнать от своих людей во дворце, какой она вернулась. Ему хочется увидеть ее главами других, услышать собственными ушами и лишь тогда решить, как вести себя. Но все это были ее догадки... Длинноногая лошадь хана мирно трусила перед ней. Его смоляные волосы привлекали взгляд, согнутая спина в красном — цвет императоров — не давала покоя тревогам... И тревоги эти росли по мере приближения к скалам Мадары.
12
Климент привязал мула в монастырской конюшне и перекинул сумку через плечо. С некоторых пор он подружился с купцом, который покупал у него иконы и вдвое дороже перепродавал их. Лавку старик удачно поставил внизу, на перекрестке, где дорога ответвлялась к монастырю. Разные люди проходили и проезжали по дороге: богатые, бедные, паломники, путешественники, побирушки, монахи... Каждый останавливался, заходил подкрепиться красным винцом, купить чего-нибудь в путь-дорогу. К тому же лавка привлекала своим названием — «В тени лозы». Живой виноградной лозе было больше ста лет, и ствол ее походил на жилистую, узловатую шею библейского отшельника. Климент не засиживался в лавке — не пил, да и времени не было. Продав иконы и получив деньги, он садился на белого мула и возвращался в обитель. Сегодня он задержался чуть дольше обычного, зато вернулся с новостями. Купец рассказал, что в Константинополе что-то готовится. Повсюду рыскают люди асикрита, нашептывают монахам о каких-то грехах патриарха... Один из них, человек Фотия, был в лавке, расспрашивал об игумене, упомянул также о Константине и Мефодии, выпытывал сведения о монастырских доходах и прочих подозрительных вещах. Старик решил подпоить его, чтобы узнать истину, да только зря: истины он так и не разведал, потому что тот человек дармовое вино выпил, вышел якобы подышать свежим воздухом и не вернулся, не взяв даже своей сумы с требником. Старик показал этот требник, на второй странице которого Климент прочитал имя и фамилию хозяина Аргирис Мегавулус. Климент вспомнил эту фамилию, ее обладатель учился в Магнавре вместе с Гораздом и Ангеларием, о чем послушник узнал от них самих, когда они недавно посетили в монастыре своего учителя. Они пробыли у Константина целую неделю и в своих разговорах не раз упоминали этого Aргириса с гневом и презрением. Климент уже знал о нем столько подробностей, что сам стал недолюбливать его. Потому приезд Мегавулуса, да еще с таким заданием, не обрадовал послушника. Заговор против Игнатия показался ему весьма возможным. Слухи о борьбе патриарха с Вардой дошли до самых заброшенных скитов и божьих пещер, и отшельники, презревшие мирские соблазны, однако, жадно ловили всякую новость о распре. Климент не знал причин, но Аргирис, оказывается, и об этом болтал: мол, Игнатий слишком многое позволил себе, укоряя Варду за греховную связь со снохой... Такого обвинения кесарь и на том свете не простит... Слово «сноха» как ножом ударило в сердце Климента, и он впервые позволил себе присесть «в тени лозы» и опрокинуть немало стаканчиков. На обратном пути мул казался ему чересчур высоким, а дорога слишком узкой. Два раза он охлаждал голову в придорожных источниках, но сердце все мучилось мыслью об Ирине. Если уж патриарх заявил об этом публично, стало быть, все правда. Однако какое ему дело до ее безобразий? Кто она ему? Никто. Лучше уж присматривать за мулом как следует и глядеть в оба, ибо старый плут вроде опять обманул при расчете... Да нет, просто удержал за выпитое вино... Ничего, надо будет в следующий раз отнести больше икон, чтобы отчитаться перед игуменом как подобает... Полузабытая Ирина вновь ожила в душе красивым ядовитым цветком. Столько людей прошло мимо нее, и только он один влюбился по уши, как юнец... Наверное, все из-за склонности к одиночеству... Сызмала как забьется в угол и давай мечтать... Птицу счастья ищет, вместо того чтобы прямо смотреть жизни в глаза. А что такое счастье? Создать прекрасную икону, написать интересную книгу, обрадовать людей чем-нибудь новым.., честно пройти свой земной путь... Климент еще молод, чтобы сказать: да, я совершил все, что задумал, — но пример отца и Константина поможет ему... Климент перекинул суму через плечо и направился в мастерскую. Там ожидали его горшки с красками, пахучие растворители, густое льняное масло. Войдя, он сразу пошел в темный угол, где спрятал икону с блудницами, и долго всматривался в красивое лицо Ирины. В тот день она спросила его, может ли увидеть себя на иконах, вот он готов подарить ей эту, появись она в монастыре. Ее место навсегда здесь, где наивность и наглость объединились в образе одной женщины. Климент повернул икону к стене, лег и вытянулся на жестком ложе. Голова разламывалась от вина, от мыслей и тревог о тех, кто любил и уважал патриарха. Он достал из-под подушки книгу рода, попытался читать, но ему было сейчас не до того. Когда вошел Савва, Климент притворился спящим. Но не тут-то было. Стиснув ему нос пальцами-клещами, Савва подождал, пока послушник моргнет, после чего милостиво отпустил.
— Ну, как прибыль? — спросил Савва, подсаживаясь к другу.
— Как всегда, — неохотно ответил Климент.
— А блудниц так и не продаешь... Не в силах расстаться с той, знатной?
— Отныне одних блудниц буду рисовать! — огрызнулся Климент.
— Нужны они людям как собаке пятая нога! Тебе надо бы поярче сделать одежду богоматери, тогда купцы валом повалят. Истинная святость в ее лице и материнская ласка... Она у тебя лучше всех получается.
Климента подмывало сказать Савве, что лицо богородицы и блудницы одно и то же, но он сдержался — не хотел осквернять ту, которая взрастила спасителя... Повернувшись спиной к стене, он стал слушать друга. О чем бы ни говорил Савва, он всегда заканчивал своими переживаниями в далёких землях сарацинов. Вот и теперь, постукивая голой пяткой о дощатый пол, он сказал:
— Я говорил тебе как-то, что плакал по женщине и женщина плакала по мне... Послушай. Это было, когда меня разлучили с любимой девушкой. Мы пришли тогда с нею на берег большой реки... Моя далекая страна бескрайня, и реки ее большие, бесконечные... Оставь челн на воде, поднимется ветер — и река может унести тебя до самого Константинополя... Ну, пришли мы с ней, значит, к реке. Она — воды набрать, я — коня напоить, как вдруг из зарослей вербы выскочили человек десять незнакомых мужчин и набросились на нас. Помню, одного я пырнул ножом, он тут же отправился на тот свет. Но много их было, и они связали меня, как барашка. Очнулся, вижу себя на дне лодки, около меня — она, в разорванной одежде, окровавленная: там, в лодке, один на них изнасиловал ее. Как мне хотелось порвать веревки, аж руки посинели, но не удалось; от обиды и бессилия слезы потекли по щекам. С тех пор не видел я ее, да и как мог увидеть? Сделали они свое подлое дело, потом взял ее один и выбросил в реку. Женщина им больше была не нужна. Много раз видел я ее во сие, вчера ночью — тоже. Все приходит и просит прощения за какую-то вину. Ни в чем она не была виновата. Она была хрупкой и нежной, как тростинка, почти ребенок... Очень похожа была на твою богородицу — ну точно как она...