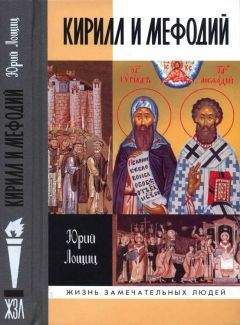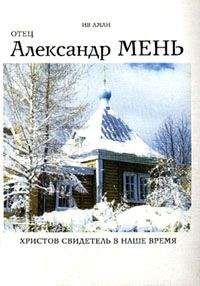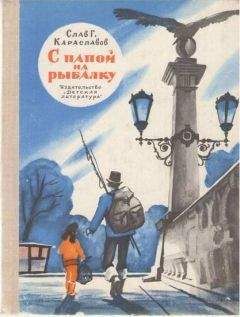СЛАВ ХРИСТОВ KAPACЛABOB - Кирилл и Мефодий
Было уже за полдень, игумен почувствовал голод.
Бросив последний взгляд на рассыпанные листы, он перекрестил братьев и покинул келью. За ним потащился Пахомий с послушниками.
Когда шаги затихли, Мефодий улыбнулся:
— Ну и успокоил...
— Когда глаза незрячие, глупость всегда важничает... Смотрел я на отца Пахомия и думал о невежестве... Как глубокомысленно изрекал он «да, да...». Мне показалось, что они притащились с недобрыми намерениями, вот и решил пошутить.
— Нечистая сила принесла... После ссылки Феодоры и ее дочерей некоторые торопятся оградить себя от всяких подозрений. Сижу вот и думаю, как долго еще патриарх протянет, предав анафеме Варду... Идут слухи, что император велел Игнатию постричь Феодору и дочерей в монахини, но тот отказался... Один, а противостоит обоим.
— Почему один? Феоктист поддерживает его!
— Феоктист... — Мефодий опустил голову. — Феоктиста уже нет, Константин... Вывели на южную стену...
Фраза была известной — на южную стену вели людей, только чтобы казнить, — и все же в первое мгновение Константин не понял ее значения. Он осознал ее лишь потом, сел за стол, облокотился и обхватил руками голову. Он долго сидел так, вслушиваясь в оглушающий стук сердца, постепенно преодолевая боль и все отчетливее размышляя о человеке, которого знал еще до того, как он вошел в круговерть власти и почестей. Покойный был из тех людей, которые легкой, щедрой рукой вознаграждали открытую ими незаурядную личность. Вот и для Константина не жалел он ни золота, ни похвал, протянул ему крепкую десницу, чтобы возвысить, и философ был ему бесконечно благодарен. Но почему, почему он погнался за какой-то недостойной мечтой, зачем очернил все светлое в себе? Да, разошлись их пути в конце его жизни... Мир ведь что колесо: один появляется, другой исчезает... И все ж не по каждому так болит сердце...
— Может, еще что-нибудь слышал? — спросил философ.
Голос его дрожал.
— Ничего.
— А это точно?
— Если говорят, стало быть, правда.
Они умолкли, каждый ушел в свои думы. Константин припомнил последнюю встречу с логофетом, его растерянность, и торопливый отъезд, и нервные увещевания помириться с Ириной... Ирина! Страшное подозрение потрясло философа. Ирина непременно участвует в этом злодеянии, она — капля, переполнившая чашу злобы. Это ее губы произнесли предательские слова — иначе быть не может, Константин был в этом уверен, в противном случае логофет не стал бы так умолять его о примирении. Наверное, это была его последняя надежда победить, а Константин растоптал ее своим упрямством. Приложил, выходит, руку к его смерти? Навечно замарал душу? Как можно было быть таким жестокосердым?
— Брат, грешен я...
— Что ты? — спросил Мефодий.
— Горе мне, я должен был согласиться с ним!
— Думаешь, он победил бы? Не кори себя, Константин, за мнимые грехи. Логофет погиб, ибо так было суждено: он не мог победить, так как был добрым. Мы иногда напрасно думаем, что добро сильнее ала. Зло всегда было бесстыжим, но, если мы откажемся поддерживать добро и воевать за него, нет смысла жить... Допустим, ты взял бы меч и выступил бы за логофета. Твои дни оборвались бы на той же стене — и конец надежде славянских народов. Разве можно сравнивать одно с другим?.. Нет! Поэтому не надо печалиться. Богу — богово, кесарю — кесарево. Нам предстоят свои испытания, не стоит терять силы в бесплодных терзаниях... Послушайся меня! Ты умнее, но я прошел сквозь огонь и воду... Возьми себя в руки! Нас ждет работа.
10
Фотий чувствовал, что постепенно становится послушным орудием в руках Варды. Он мучительно хотел вырваться из-под его опеки, но не мог и жил теперь, словно муха, попавшая в паутину. Он вынужден был оставить кабинетную жизнь, свои перья и кисточки, свое общение с древними и новыми учеными. Из мира строгих и последовательных раздумий о возвышении человечества он вдруг погрузился в омут пошлости и мелочности, претендующих творить историю. Фотий боялся оказаться в положении пресловутого пшеничного зерна, попавшего между двумя жерновами, а потому решил ловчить, но ловчить можно, находясь вне ссоры, а Фотий был внутри, в самой гуще. Кроме того, надвигалась третья сила, пока еще неуверенно, но асикрит чуял, что она станет самой опасной. Это был Василий, бывший конюх и нынешний дружок василевса. Варда то ли недооценивал его, то ли просто у него не было времени подумать о нем, так как самому не хватало воздуха и он сам ждал беды в любую минуту. Был еще Жебан — нахальный латинянин-ростовщик, отказавшийся дать взаймы василевсу нужную сумму, так как прекрасно знал, что власть имущие денег не возвращают. Уже в царствование отца Михаила Жебан владел всеми судоверфями города и искусно грабил казну. Он умудрился продавать корабли даже врагам империи! Это кощунство привело императора в бешенство. Он изгнал бы Жебана из Византии, но прежние василевсы не упорядочили сделок с ним, и Михаил чувствовал себя бессильным. Он хотел решить этот вопрос изданием соответствующего указа, но встретил жестокое сопротивление торговых объединений. Больше всех протестовали венецианцы и рагузцы[43], так как хотели и впредь продавать корабли арабам. Сам Жебан ловко пользовался их покровительством в своей антигосударственной торговле. После отказа патриарха постричь Феодору и ее дочерей в монахини Варда пришел в день крещения в пречистый храм со всей свитой и потребовал причаститься. Патриарх Игнатий, известный всему народу святой жизнью аскета, пожелал исповедать кесаря, чтобы оценить его прегрешения. Варда отказался, и Игнатий проклял его, повелев покинуть дом господень. Удар был неожиданным... Варда не предполагал, что патриарх позволит себе такую дерзость. Рассвирепев, он хотел было выхватить меч, но святое место остановило его. Вышел он столь же демонстративно, сколь и позорно. Этот поступок Игнатия стал сигналом борьбы не на жизнь, а на смерть.
Люди Варды лихорадочно засуетились: надо было найти улики против патриарха. Одной из самых серьезных оказалась его связь с Жебаном — связь почти несуществующая, но... Купец снабжал церковь ладаном из Смирны и свечами, а приморские монастыри покупали у него и лодки. Патриарх всего лишь раз встречался с латинянином, чтобы упорядочить расчеты, однако этого оказалось достаточно для обвинения его в заговоре против Михаила.
Варда прожужжал василевсу уши, пока не убедил его, что нет более яростного врага государства, чем патриарх. В этой мерзкой игре большая роль отводилась Фотию: он был подставным лицом, которое должно было подтвердить ложные обвинения — и все ради обещанного патриаршего престола. По церковным канонам, Фотия невозможно было сделать патриархом; невозможного, однако, в Византии не существует, особенно если за спиной у тебя всесильный Варда. Все же, будучи ученым человеком, знающим церковные догмы, Фотий не питал иллюзий, что когда-нибудь сядет на этот престол, и выступал против патриарха только из боязни прогневить кесаря.
Фотий был начальником императорской канцелярии, хранил тайные бумаги и, кроме того, был командиром маглавитов, но в действительности маглавитами распоряжался сам Варда — с ним советовались обо всем, прежде чем пойти к Фотию. В последнее время особенным уважением и довернем кесаря пользовался стратиг Адрианополя; предав логофета, он предал еще четырех друнгариев, которые также погибли на южной стене, и никто не услышал их последнего крика.
Дорогая услуга требовала дорогой платы. Кесарь долго думал, чем заплатить стратигу — доверием или смертью. Вмешательство Фотия склонило чашу весов к доверию. Довод асикрита был прост: если люди узнают, что стратига убили, конец доносам — все отпрянут в ужасе. Внушая Варде уважение к сочувствующим, Фотий тем самым оберегал и себя — бог ведает, что придет кесарю в голову завтра? Того и гляди, принесет в жертву его, Фотия, и глазом не моргнет. Жестокость Варды страшила его. Фотий ни с кем не делился этими опасениями. Лишь вечерами за высокими стенами дома он осмеливался вести мысленный диалог со своими страхами. Они таились среди книг и шелестели голосом сухого пергамента:
«Тебе не кажется, что ты слишком далеко зашел?»
Фотий оглядывался и спешил ответить, но его ответ был весьма неясен:
«Разве может человек сам определить это?»
«Не хитри! — шелестели опасения. — Ты достаточно умен, чтобы соблюсти меру...»
«У каждого времени своя мера», — пытался увильнуть асикрит.
«Время и мера зависят от людей!»
«Ну в чем моя вина, если я попал в доверие к людям, которыми владеет одна только страсть — быть над всеми?»
«Разве ты не можешь уйти от них?»
«Поздно. Меня сразу объявят врагом...»
«Пожалуй, ты прав...» — И голос сомнения растерянно умолкал, запутавшись в собственных вопросах. Заколдованный круг замыкался, третьего пути не было. Или с Вардой, или с патриархом. Но по всему было видно, что Игнатий проиграл, именно Фотию предстояло возложить терновый венец на его седую голову... Варда поручил ему поближе познакомиться с церковными иерархами, тайно побеседовать с врагами Игнатия, щедро обещая всяческие блага. Низшие хотели возвыситься, епископы хотели подумать, прежде чем решить. Сначала выведывали, кто согласился, потом умолкали, потом опять начинали рассматривать положение со всех сторон, не переставая спрашивать: