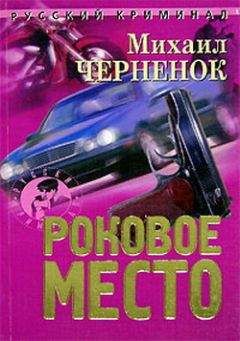Михаил Тарковский - Тойота-Креста
Хорошо спалось на новом месте. Необыкновенно выпукло и без остатка отливалось в душе происходящее, и сны ложились на сердце легко и жили с явью равноправно и ярко. И красотой синей воды и окрестных гор прилил-перетёк по незримым сосудам Машин образ. И наутро особенно остро ощутил он беззащитность её теплого рта, и эта утечка тепла через самого слабого особенно поразила. Почти до вечера он проверял с ребятами ловушки, а после обеда, чуть передохнув, вышел на улицу.
По западному берегу он прошёл на самый юг острова и смотрел через двухмильный пролив на деревеньку Носсапу, на высокий маяк с электрически синими огнями, а потом поднялся и остановился у огромного железного креста, стоящего на бетонном основании. Когда-то он показался Жене сваренным из ржавой американской рулёжки, которой был завален весь Кунашир и которой в Сибири городили огороды возле разобранных взлётно-посадочных полос, давно залитых бетоном. Так он и запомнил его, а теперь оказалось, что ствол и руки креста, огромные, как лопасти или крылья, были сварены специально и напоминали своей грубой ажурностью арматуру не то моста, не то крана.
Женя встал у креста на колени и попросил прощения за всё, что натворил в своей жизни, и за всех людей, которые живут, как ему казалось, в пол-, в четверть, в сотую часть веры или вовсе без неё. Потом он поцеловал крест в трудовое железо.
То, что крест оказался сваренным не из рулёжки, а из простого железа с дырками, нисколько не удивило его – с ним и раньше такое случалось. Он подумал, что если б это была заморская рулёжка, а остров непонятно чей, то так даже и острее. Тогда можно было бы сказать, что на японском острове под православным крестом из американского железа стоит на коленях русский человек. И спрашивает куда-то вдаль, через жилы-облака, реки-проливы и руки-дороги: «А чья же это земля, Батюшка Енисей, отзовись, если слышишь меня? И почему дорога она так, что мурашки ползут по спине и душу сводит океанским ознобом?» И отвечает Батюшка Енисей – сквозь слова-облака и реки-дороги: «Слышу тебя, брат ты мой, и вправду, как поднесённый стоишь. Знай, что в тебе только дело, и в руках твоих слёзы твои, и если они настоящие и приняла их земля без остатка, то твоя это земля во веки веков».
Потом Женя прошёл на восточное побережье, где прибойная волна омывала оледенелые глыбы базальта, переливалась синими струями в белёсых ваннах, подымалась и убегала, и поверхности её ходили, как на весах в чашах и чашках. Он подошёл совсем близко к воде, так что до него добивали брызги и гул поглощал с головой. Потом он что-то спросил у грохочущей массы…
И, кивнув, быстро отошёл от воды и стал торопливо забираться на высокий обрыв. Наверху он некоторое время стоял, глядя в океанскую даль, а потом достал из внутреннего кармана чёрный и блестящий брусочек с кнопками, что-то нащупал в нём и крикнул:
10
– Маша, ты меня слышишь?
– Да! Это ты? – ответил далёкий голос.
– Я. Что ты делаешь?
– А как ты думаешь? – голос прерывался и множился.
– Я думаю, что ты… ты покупаешь сапоги.
– Да! – сдулись вёрстами нежные меха. – А как ты узнал? Ты где? Что ты делаешь?
– Я… Ты должна догадаться…
– Что догадаться? Женя! Почему ты молчишь?
– Я… Я не молчу… Понимаешь… Я… Просто… они так добрали смысла… что я не могу…
– Что ты не можешь?
– Их сказать…
– Кого их? Я не понимаю…
– Ладно… Я вот машину новую купил!
– Какую?
– «Марк-два-блит» [9], вэдовый, два и четыре литра.
– Он… хороший?
– Он великолепный… Белый… и вообще… такая кимастищща кругом…
– Что-о?
– Да ничего…
– Ты уехал совсем… далеко?
– Да…
– Совсем-пресовсем?
– Совсем-пресовсем…
– Туда, где все стали другими?
– Туда, где все стали другими…
– И ты тоже?
– И мы тоже…
– И ты решил меня снова придумать?
– И я решил тебя снова придумать.
– Хм… Расскажи мне что-нибудь…
Он хотел рассказать про хоккайдские горы в снегу и про несущихся топорков, про мост Три Семёрки и про маяк в Носсапу, про распластанные пихты и крест из ржавой рулёжки…
…Они еле держали своё содержимое, и оно, огромное, вздрагивало, ходило ходуном под тонкой плёнкой, бродило и опадало дымчатой бездной – такими спелыми, налитыми стали слова, и так страшно их было пролить.
– Может, ты послушаешь… не меня? И я просто протяну руку…
– Не тебя, а кого? Что? Это… правда? Ты… ты не обманываешь?
– Я не обманываю… – и он, будто решаясь на что-то, набрал полную грудь воздуха и выдохнул:
– Я стою
на краю
Океана.
* * *Я стою на краю Океана,
Ожиданья, надежды, земли,
Над Хоккайдо полоска тумана,
И в Корсаков ушли корабли.
Всё сбылось по пути, на дороге
В набегающем косо снегу,
Потому так пронзительно строги
Эти горы на том берегу.
Так по чьей нестихающей воле
Я стою, как стоял на мосту,
Два крыла, две дороги, две боли
Распластав на огромном кресту?
Вот колышется, светится, дышит,
Подступает, гудит, говорит,
И имеющий уши да слышит,
И имеющий очи да зрит
Эту зыбь, не залегшую к ночи,
Эти дали, дымы, облака…
Лишь бы были прозрачными очи
И спокойна, как прежде, рука.
Спите, горы, дома и собаки,
Я к утру разгоню пелену,
Я подам предрассветные знаки,
Что приму, пронесу и верну,
Всё верну… и полоску тумана,
И двуглавую долю мою.
Понимает язык Океана
Только тот, кто стоит на краю.
Часть 3
Распилыш
Глава 1
Жека
Е. М. Барковцу
1
Под восточным крылом орлана
На излете последней строки
Ты стоял на краю Океана
И туманы поил с руки.
Ты стоял на краю. Стыли реки.
Замирал океанский накат,
Я прощался с тобой навеки,
Мой напарник, учитель и брат.
Только дрогнуло небо: трогай!
Ты остался на берегу.
Я уехал твоей дорогой
По щебёнке, желтевшей в снегу.
Облака расступились рвано…
Мне так трудно расстаться с тобой,
Будто я – на краю Океана
И грохочет в висках прибой.
Будто соль омывает ноги,
Будто Маша зовёт с крыльца…
Будто нет конца у дороги
И у книги не будет конца.
2
Был асфальт в снежной насечке,
Чья-то «креста» в коричневом льду,
Обжиг ветра, жара из печки
И «камаз» в солярном чаду.
Был ночлег, и была дорога,
И морозные звёзды с утра,
И щиты отсекали строго:
Лондоко, Биракан, Архара.
Я летел в версте от Талдана
По гребёнке дроблёных скал,
Ты стоял на краю Океана
И две сотни страниц не спал.
Сколько вёрст под тенью крылатой!
Как умеешь ты им служить!
Мой братишка и мой соглядатай,
Постарайся меня пережить!
О тебе будут помнить дети
И участок Хабаровск – Чита,
И когда-нибудь в дальнем свете
Твоё имя сверкнёт с щита.
3
О тебе говорили очи
Синих звёзд в седой высоте,
О тебе на исходе ночи
Прокричал Амазар Чите.
По тебе резина, лысея,
Шелестела сквозь ночь: «Прости…
От Амура до Енисея
Остаётся три дня пути».
Народится из сизых полос
Облаков, полыней и льдин…
И окликнет огромный голос:
«Почему ты приехал один?
Или чем-то тебя не уважил
Твой собрат по судьбе и рулю,
Или новых героев нажил,
Или я – тебя не люблю?
Или манят другие книжки,
Или Маня уходит к Гришке,
Или денег просит сума,
Или лира сошла с ума?»
Я ответил: «А что мне лира,
Если это моя земля?
Я отдам все награды мира
За один поворот руля».
Вот Чита впереди как в чашке
И в шершавой пыли капот…
Я прижался к худой листвяшке.
Сделал вдох…
И включил поворот.
4
Я вернулся к тебе с полдороги,
Когда понял, что я не смогу
Без твоей бесконечной дороги
По щебёнке, утопшей в снегу.
Рыжей пыли на снежной бровке
Вымерзающий варенец…
Даль хребта в серой штриховке.
И заезжки жданный дворец.
И опять не сомкнутся очи.
Тарахтит стоянка во мгле.
(В синей туши – остаток ночи.
Гарь под сопкой – в чернейшем угле.)
В синеве пройду Магдагачи
(Лиственничник – в карандаше…),
Лишь бы было светлей и богаче
На бескрайней твоей душе!
Снова сопки берут в объятья
И колёса бегут легко,
И кивают названья-братья
Архара, Биракан, Лондоко.
Вот Хабаровск с морозным чадом…
И в солярном чаду «камаз».
Слышишь, Жека, дождись, я рядом,
Не закончился наш рассказ
Под восточным крылом орлана…
Где горчей с каждым годом жить,
И дорогу до Океана
Извели, не успев проложить.
Перевалы, петли, уклоны,
Обжитые с таким трудом,
Где когда-то неслись перегоны,
В кузовах, оперённых льдом.
5